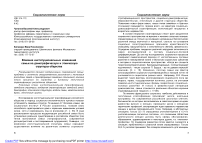Влияние институциональных изменений семьи на демографическую и этническую структуры общества
Автор: Чуланов Василий Александрович, Кипшидзе Вера Николаевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социологические науки
Статья в выпуске: 2, 2009 года.
Бесплатный доступ
Раскрывается процесс модернизации современной семьи; проблемы и источники имущественного расслоения и типология российских семей и трансформация семейных отношений; влияние этого процесса на характер и динамику этнической стратификации российского общества
Институциональная трансформация, семейные структуры, гендерная стратификация, семейный уклад, демография, этническая структура, модели семьи, межэтнические браки, этнические группы
Короткий адрес: https://sciup.org/14932754
IDR: 14932754 | УДК: 314.172
Текст научной статьи Влияние институциональных изменений семьи на демографическую и этническую структуры общества
Исследование институциональной трансформации российского общества в период социально-экономического кризиса показал устойчивость семейных структур. По мнению А.Г. Волкова «семья, как социальный институт в России сохранилась, показав свою способность адаптироваться даже к коренным изменениям условий жизни, хотя и изменившись под их влиянием» [1; с. 53]. В ходе рассмотрения процессов модернизации российской семьи было установлено реальное существование в российском обществе трех типов моногамной семьи (патриархальной, современной детоцентристской и постсовременной супружеской). Очевидно, что изменение институциональной структуры семьи оказывает существенное влияние на различные сегменты социально- 6
Социологические науки стратификационного пространства, социально-демографическую, образовательную, этническую и другие структуры общества. Появление новых форм семьи, новых типов семейных и брачных отношений сказывается, прежде всего, на характере социальнодемографической стратификации, включающей гендерное и возрастное неравенство.
В основе гендерной стратификации лежит факт разделения социального пространства на мужские и женские статусные позиции, определяемые не столько на основании несомненных биологических различий между мужчиной и женщиной, сколько на основании социально сконструированных признаков мужественности (masculinity, маскулинности) и женственности (feminity, феминности). Осуждение проблемы гендерных различий затрудняет включенность самих исследователей в систему социально-половой дифференциации. До сих пор исследователь социальных процессов совершает символический переход от «естественных» половых различий в повседневной жизни к бесполым социальным субъектам и акторам в социологическом пространстве. «Когда вы слышите теоретически/практический, буржуазный/народный, господствующий/ подчиненный, - пишет социолог П. Бурдье, - вы не думаете мужской/ женский» [2; с. 16]. Возможно, поэтому семья как фактор конструирования социально-стратификационных позиций почти не учитывается в социологии разных школ. Например, В.И. Ильин выделяет такие факторы конструирования социального пола как мораль, право, государственная политика, рынок, не учитывая семейно-институциональные формы закрепления социальнополовых различий. И только в феминистской литературе домохозяйство, семья становится реальным объектом изучения стратификационной теории [3; с. 77-98].
По мнению французского социолога, наиболее действенные и легитимные классификации производит школа, школьные программы. Но современные российские школьные учителя, большинство из которых воспитывались в советское время на идеях равенства мужчин и женщин, проводили уроки о женщинах героических профессий, воспроизводят идеи правового неравенства женщин и мужчин патриархального толка. Например, в абстрактных ситуациях, только 32,1 % опрошенных учителей-мужчин и 15,4 % учителей-женщин полностью согласны, что основными областями деятельности женщин должны быть сферы обслуживания, образования, здравоохранения и некоторые другие, т.е. «женские» профессии. Но поддержка равенства полов заметно снижается в ситуация, приближенных к реальной жизни опрашиваемых. Только 39,5 % учителей принимают без оговорок возможность для женщины
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Социологические науки быть руководителем мужского коллектива. Несмотря на то, что абсолютное большинство учителей в российских школах женщины, 62,3 % опрошенных считают, что главное предназначение женщины – быть женой и матерью, 40,7 % прямо указывают на приоритетность семьи по сравнению с профессиональной карьерой [4; с. 52-53].
Очевидно, что формирование представлений учителей сказались стереотипы сознания, формируемого семейным укладом советского общества (периода социализации большинства учителей), для которого было характерно признание важности института семьи и ответственности женщины за состояние семьи конкретной.
Собранные американскими социологами представления людей о чертах женского и мужского характера [5; с. 342] безусловно связны с традиционной патриархальной полоролевой дифференциацией в семье, хотя людям кажется, что эти черты основаны на биологической природе.
Неравенство супругов в традиционной патриархальной семье, проецируемое на все общество, базировалось на экономической зависимости женщин, которая отчуждает женщин от важнейших ресурсов общества, снижая ее социальный статус, существенно уменьшая объем доступных ей прав и возможностей. Исследования, проведенные в октябре-ноябре 2003 г. методом личного стандартизованного интервью среди городских жителей трудоспособных возрастов, показали существование гендерной стратификации: женщины преобладают в группе малообеспеченных и бедных респондентов (62 %), мужчины составляют большинство в обеспеченной и богатой группах (64%). Оценка респондентов по индексу зависимости показала, корреляцию малообеспеченности и экономической зависимости женщин: женщины составляют 66 % зависимых работников, в то время как 62 % опрошенных мужчин являются экономически независимыми работниками, женщины составили 64 % экономически зависимых в семье респондентов (вклад в семейный бюджет менее 10 %), в то время как мужчины преобладают в группе «кормильцев семьи» [6; с. 55].
Экономически зависимые работники обладают довольно низкой конкурентоспособностью, имеют довольно малое количество альтернатив своего трудоустройства. Экономическая зависимость женщин в основном обусловлена состоянием в браке и уходом за детьми, зависимость мужчин – их экономической несостоятельностью. Следствиями экономической зависимости женщин в семье, по мнению Е. Балабановой, являются большая экономическая уязвимость женщин, особенно после развода или смерти супруга, ограничение «права голоса» в семье, ограничение доступа к экономическим ресурсам домохозяйства, насилие, 8
Социологические науки психологический дискомфорт, усиление объемов домашней работы. Таким образом, семьи, где существует экономическая зависимость, редко строятся по эгалитарной или партнерской модели. Как правило, преобладает традиционное патриархальное разделение ролей или модель доминирования экономически зависимой женщины.
Вторая модель преобладает в бедных семьях, где вклад женщины в домашнее хозяйство осуществляется путем экономии и рационального распределения ресурсов. Корни этой модели – в советской семье, в которой государство путем льгот, пособий, общественных и государственных социальных организации замещало отца в его роли кормильца семьи. Традиционная патриархальность часто воспринималась как партнерство, поскольку зависимые женщины на словах соглашаются с таким распределением домашних обязанностей [6; с. 54]. Но величина конфликтов относительно распределения домашних обязанностей, наибольшая в группе зависимых, говорит о вынужденном согласии.
Патриархальная модель теоретически провоцирует усиление насилия относительно зависимых женщин, хотя практически такие данные собрать трудно. Удовлетворенность патриархальной моделью возможна в случае хороших душевных отношений супругов, высокого уровня доверия, склонности к общей ценностной модели (часто религиозной).
Проблема экономической зависимости женщин заключается в воспроизводстве малообеспеченности, согласно репродукционным кругам Гидденса. Ресурсная теория объясняет гендерное распределение труда привязкой домашней работы не с особыми навыками и качествами, а свободным временем. Тот из супругов, кто менее востребован рынком, несет основное бремя ответственности по дому. Таким образом, внутрисемейное неравенство является результатом рационального распределения ресурсов, поскольку мужчина более востребован рынком, а женщина нет. Соответственно, женщина вносит в домашний бюджет свободное время [7].
Низкий финансовый вклад женщины в семейный бюджет оправдывает увеличение объемов домашней работы. Но большая нагрузка женщин в домашнем хозяйстве выступает фактором репродукции низкой конкурентоспособности, поскольку не позволяет повысить квалификацию, снижают рыночно-трудовую востребованность женщин и, как следствие, воспроизводят низкие доходы женщин, которые являются причиной увеличения объемов домашней работы.
Как показала Е. Балабанова, попытки государства создать систему преференций для отдельных категорий женщин (например, матерей) воспроизводит вертикальные и горизонтальные сегрегации
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Социологические науки
рынка труда. Трудовой кодекс, защищая права матерей, заставляет работодателей избегать приема на высокооплачиваемые места женщин репродуктивного возраста, опасаясь чрезмерных расходов на замещение ее в случае беременности и ухода за ребенком. В результате женщинам остается только сегмент низкооплачиваемых рабочих мест. «Таким образом, пишет Е. Балабанова, - защитные нормы трудового законодательства, нацеленные на часть женщин, негативно сказываются на возможностях большинства женщин на рынке труда» [6; с. 51].
Выход их этого репродукционного круга гендерного неравенства возможен. Развитие равноправных супружеских отношений на основе формирования правовой культуры. В настоящее время права и обязанности супругов регулируются нормами Семейного и Гражданского кодекса, которые не всегда способны предусмотреть разнообразие житейских ситуаций и регистрируют только часть социальных и экономических отношений между супругами. Так, Семейный кодекс фиксирует право каждого из супругов рода трудовых занятий и профессии, но не спобен предусмотреть психологическое давление на экономически зависимого супруга. Кодекс разделяет имущество супругов на добрачную собственность и совместно приобретенное имущество. Выделяя супружескую долю только в совместно нажитом имуществе, кодекс позволяет лишать жилья бывшего супруга. В этой ситуации брачный договор позволяет предусмотреть многобрачные житейские ситуации для каждой конкретной семьи и является формой сотрудничества супругов (хотя может стать и формой давления, но эту ситуацию необходимо предусмотреть до заключения брака).
Для преодоления гендерных различий в семье и на производстве необходима трансформация системы социальной защиты и трансформация модели семейных отношений. В проведенных в Ханты-Мансийском автономном округе, Свердловской и Челябинской областях опросах работающих женщин репродуктивного возраста было установлено, что только 10-15 % молодых замужних женщин склонны заниматься исключительно воспитанием детей и домашним хозяйством. Остальные же 85-90 % женщин считают необходимым совмещать домашний труд, репродукцию с профессиональным обучением (повышением квалификации) либо с производительным трудом [8; с. 42]. Таким образом, не все женщины нуждаются в длительных отпусках по уходу за ребенком. Чтобы репродукция не мешала карьере а феминность не являлась основанием отказа работодателя необходима разработка системы мер, обеспечивающих большие возможности трудовой мобильности для женщин и возврат мужчины в семью в качестве ее активного субъекта.
Социологические науки
Последнее условие неизбежно в ходе трансформации семейной модели и переходе к постсовременному супружескому браку.
Трансформация модели семьи существенным образом влияет на характер и динамику этнической стратификации российского общества. Но прежде чем рассмотрим влияние семьи, уточним параметры этнической стратификации.
Почти во всех обществах этническое пространство стратифицировано, что означает очевидное привилегированное положение предстателя того или иного этноса перед другими, основанное исключительно на этнических категориях. Часто это различие определялось как коренной или пришлый этнос. В.И. Ильин определяет этническую стратификацию как «иерархически упорядоченное неравенство этнических полей, проявляющееся в неравенстве таких статусных индикаторов, как безопасность и стабильность физического существования представителей этнических групп, уровень жизни, престиж, перспективы социальной мобильности, объем власти, место в общественном разделении труда» [9; с. 37]. Этническая стратификация закрепляет за определенными этносами совокупность социальных ресурсов, либо лишает доступа к социальным благам. В.И. Ильин доказывает существования двух основных способов формирования этнической стратификации: естественный, территориально-географический и властное конструирование.
Но территория, ландшафт, природная среда определяют не только способы жизнедеятельности этноса, его черты, характер взаимодействия с окружением, но и материальный статус представителей этноса, этнических групп. Природная среда, ландшафт создают благоприятные условия для жизни или неблагоприятные условия. Ранее мы рассматривали примеры институционального развития двух государств древности Египта и Месопотамии, живших возле больших полноводных рек. И хотя земледелие в долине Нила требовало усилий, Разливы Тигра и Евфрата обеспечивали удобрением поля природным образом, обе территории можно признать благоприятными. В то же время существовали малоизвестные этносы, обрабатывающие скудную землю, кочевавшие со своими стадами в пустынях. И в наше время внезапное открытие на территории того или иного бедного этноса залежей полезных ископаемых позволяют этому этносу повысит статусные позиции. Этнические конфликты часто имеют в своей основе борьбу за ресурс.
Социальная и политическая история полна примеров организации репрессий на основании фактора этнической принадлежности, например, массовые насильственные переселения на основании этнической принадлежности (крымские татары,
10 11
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Социологические науки
чеченцы, корейцы, казачий субэтнос). Как считает В. Ильин, это примеры властного конструирования этнической стратификации. Понятие «титульной национальности», коренного этноса выступают проявлением административного закрепления преимуществ и привилегий по этническому принципу. В Советском Союзе существовала практика выделения мест в высшие учебные заведения для представителей коренного этноса.
В любом современном государстве существуют регионы особой этнической напряженности. Таким регионом выступает Северный Кавказ – многонациональный регион, на территории которого проживают многочисленные кавказские этносы и представители славянских народов, в первую очередь русские. История этнических взаимоотношений не всегда была мирной и безоблачной. Современные конфликты, по мнению российских конфликтологов, носят затяжной исторических характер [10; с. 70-77]. При этом роль этностратифицирующего фактора недооценивалась. Но если в других регионах России этническая принадлежность может быть незначимым фактором, то любой человек, живущий на Северном Кавказе, «всегда безошибочно знает, какой национальности его соседи, коллеги по работе, друзья его детей» [11; с. 91]. По мнению Г.С. Денисовой и М.Р. Радовеля «институционализация этничности привела к ее осмыслению в качестве базовой ценности у народов региона и закреплению в общественном сознании в качестве важного критерия дифференциации на социальные группы» [12; с. 110]. Исследователи проблем межэтнических браков отмечают, что обычно самостоятельный выбор национальной принадлежности детьми тяготеет к национальности, доминирующей в регионе. Но если в браке один из родителей принадлежит к группе кавказских этносов, а другой родитель русский, то национальность «русский» принимается значительно реже, даже если семья проживает за пределами Кавказского региона [13; с. 87].
Наиболее напряженная этностратификационная граница проходит между русским и другими этносами Кавказа. Формирование ее связано в первую очередь с социально-политической, культурной, профессиональной модернизацией региона. Русские в регионе представали не только государственную власть и армию. Они составляли основной костяк профессионалов – врачей, инженеров, технических специалистов, заработная плата которых была намного выше, чем доходы в сельском хозяйстве. Результатом реформ 90-х годов становится резкое снижение статуса русских во всех национальных окраинах России. «Если до перестройки представители русского этноса гарантированно занимали доминирующие позиции в политическом, экономическом, культурном и образовательном
Социологические науки
«полях» на всем советском пространстве, то со второй половины 80 х гг. русские постепенно вытесняются представителями коренных этносов с занимаемых ранее позиций. В результате в первой половине 90-х гг. в северокавказских национально-государственных образованиях – в той или иной степени – реализовалась неклассическая ситуация: проживающие в регионе титульные этносы, не являясь доминирующими в численном или социальноэкономическом отношении, приобрели этот статус в поле политики» [13; с. 139]. Русские вытеснялись с престижных социальных позиций. Но в результате регионы теряли основу научных, инженерных, технических медицинских и других профессиональных кадров [13; с. 146].
Утрата этнического статуса сопровождалась не только переживаниями относительно собственной идентичности, но и этническими фобиями и агрессией относительно других этносов. В рамках данной работы ограничимся только констатацией проблемности современной этностратификации российского общества и выскажем предположение, которое кажется нам вполне обоснованным. Модернизация и развитие института семьи, переход к моделям постсовременной супружеской семьи снимают напряжение этнической компоненты, поскольку этничность в значительной степени связана с патриархальной традиционностью, со свойственное этой традиционности моделями семьи.
Попробуем обосновать данный тезис. Этнические группы связаны общностью происхождения, общностью языка, культуры, истории, общими стереотипами поведения и сознания. Эти признаки подвижны, могут трансформироваться, появляться или исчезать. Каждый из них в отдельности не является решающим, но в отличие от биолого-генетических свойств этничность, как и большинство других социальных признаков, формируется социально. Отличия индивида или группы квалифицируются как этнические в результате процесса этнической идентификации. Обязательным условием выступает формирование этнической идентичности – это осознание индивидом своей тождественности с определенной этногруппой, которое формируется в результате признания индивида самой группой (свой) и отчуждения индивида внешним окружением (чужой). В ходе эмпирического исследования факторов национальной идентификации и этничности среди народов Алтая выявлены следующие пять наиболее значимых факторов: 1) родной язык, 2) национальная принадлежность родителей, 3) территория проживания народа, 4)культурные традиции, обряды и обычаи. Кроме того, для сельских жителей в число факторов входит религия (казахи) или природная среда (алтайцы), для русских, преимущественного
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Социологические науки горожан, значение имеет гражданство. Для этнически смешанных – внешность и самоидентификация [14; с. 102].
Ю.В. Бромлей, Л.Н. Гумилев, Б.Ф. Поршнев и др. считают общность территории очень важным фактором в процессах этногенеза. Л.Н. Гумилев считает этнос «явлением географическим, всегда связанным с вмещающим ландшафтом, который кормит адаптированный этнос» [15; с. 17]. Разнообразие ландшафтов определяет разнообразие этносов. Поэтому культурные традиции, обряды и обычаи, квалифицируемые как этнические, восходят к бытию народа в природной среде. Д.В. Ушаков пишет, что семья влияет на воспроизводство этничности потому, что она в наибольшей степени осуществляет «связь природной среды с духовной составляющей этноса» [14 с. 102].
Если речь идет о русском народе, то этническими считаются языческие праздники и культы, и нормы жизни земледельческой крестьянской общины. Образ жизни городских мещан ХIX века не считается народным. Из православного культа в число народных обычаев и традиций входят массовые действа, во многом утратившие монотеистические смысл. Например, к народным традициям относится не религиозный смысл Рождества, а посиделки с выпивкой и колядки (вышедшие из дохристианской обрядности). В отношении мусульманских народов такого деления не просматривается. Образ жизни этих народов более формализован Кораном. Следование правилам лишает неопределенности жизненный уклад на протяжении всей жизни, и он соответствует параметрам патриархальной традиционной модели семьи. Этничность связывается с комплексом черт, отражающих религиозно санкционированный патриархальный уклад жизни. Т.С. Лыткина проводила этнологическое исследование образа жизни жительниц Табасаранского района Дагестана. Ее описание традиционного уклада жизни табасаранцев отражает этот комплекс. Требование соблюдать традиции и обычаи народа включает четкое, строгое гендерное распределение домашних обязанностей: в обязанности мужчин входит мужчины строительство дома, пахота, сев, уборка урожая, заготовка дров и сена, Женщины работают по дому, ухаживают за скотом, ходят за водой. Престижное занятие распоряжения финансами принадлежит мужчинам. Даже в советское время, когда женщины, работавшие на ткацкой фабрике, зарабатывали больше мужчин, считалось, что их вклад в семейный бюджет «чисто символический», они не могли рассчитывать даже на часть из этих денег. К приготовлению пищи, уборке стола, мытью посуды мужчина по традиции не прикоснется никогда. К народным обычаям относится многоженство. Все женщины в доме по традиции подчиняются самой
Социологические науки старшей. Народный промысел – изготовление ковров ручной работы. Его существование связано не с экономической целесообразностью, а преследует цель занять женщин работой, поскольку по обычаю женщина не должна предаваться праздности во избежание «нехороших» мыслей [16; с. 119-125].
Очевидно, что традиции как факторы этничности во многом передаются и транслируются в рамках семейного воспитания посредством обучения языку, передаче традиций родителями и родственниками. К этому выводу пришла группа исследователей этничности жителей Алтая. Но при этом, сопоставляя ответы этнически «чистых» алтайцев, казахов, русских и представителей этнически смешенных семей, они отметили, что в этнически смешенных семьях происходит снижение актуальности фактора этничности (в качестве актуального этот факт выделили 35,4 % опрошенных взрослых и 66,7 % опрошенных подростков, в то время как в «чистых» этнических группах актуальность составляет около 80 % ) [14; с. 106-107].
Считается, что в этнически смешенных семьях происходит этническое сближение народов за счет усиления социальнокультурных и других контактов народов. Но гораздо большее значение частота и вариативность межнациональных брачных практик. С учетом выдвигаемой нами гипотезы относительно влияния семейной организации на стратификационную структуру, думаем, что смешанные браки как и браки городские тяготеют к вариативности поведенческих практик, ценностно-нормативных моделей. Этнически смешенный брак, как и постсовременный брак, определяет свободный выбор брачного партнера и готовность супругов к равному сотрудничеству, поиску решений без навязывания форм поведения. В исследованиях, проведенных в Алтаесаянском регионе просматривается зависимость стойкости этнического комплекса с сельско-патриархальным укладом и готовность к вариативности брачных и этнических практик горожан: отмечено, что ведущие сельский образ жизни алтайцы и казахи склонны в большей степени придерживаться традиций народа, чем живущие в городах русские.
Именно с этих позиций следует оценивать готовность к заключению межэтнических браков, которую демонстрировала в проведенных опросах студенческая молодежь Москвы и Чебоксар.
Список литературы Влияние институциональных изменений семьи на демографическую и этническую структуры общества
- Волков А.Г. Почему изменилась российская семья//Семья в России. 1999. № 1-2.
- Бурдье П. Университетская докса и творчество: против схоластических делений//Socio-Logos'96. Альманах Российско-французского центра социологических исследований Института социологии Российской Академии наук. М., 1996..
- Например: Хубер Дж. Теория гендерной стратификации//Антология гендерной теории. Минск: Пропилеи, 2000.
- Осетрова Н.В. Учителя о правах женщин и равенстве полов//Социологические исследования. 2002. № 12.
- Смелзер Н. Социология. М., 1994.
- Балабанова Е.С. Экономическая зависимость женщин: сущность, причины и последствия//Социологические исследования. 2006. № 4.
- Барсукова С.Ю. Радаев В.В. Легенда о гендере. Принципы распределения труда между супругами в современной городской семье//Мир России. 2000. № 4. -/http://www.hse.ru/jornals/wrldvol00_4barsukova.htm
- Илышев А., Лаврентьева И., Эффективность социальной поддержки в сферах занятости и репродукции//Экономист. 2003. № 10.9
- Ильин В.И. Формирование социальной структуры советского и постсоветского общества: сравнительный анализ. Дис.... д-ра соц. н. СПб., 1998.
- Авксентьев В.А., Гриценко Г.Д., Дмитриев Д.В. Динамика регионального конфликтного процесса на юге России (экспертная оценка)//Социологические исследования. 2007. № 9.
- Солдатова Г.У. Психология межличностной напряженности М.: «Смысл». 1998.
- Денисова Г.С., Радовель М.Р. Этносоциология: Учеб. пособие для студентов ун-тов и пед. вузов. Ростов -н/Д: Изд-во ООО «ЦВВР», 2000.
- Худавердян В.Ц., Вдовина М.В. Межэтническое взаимодействие в российской семье//Вестник Моск. университета. Сер.18. Социология и политология. 2007. № 3.
- Ушаков Д.В. Роль семьи в воспроизводстве этничности народов республики Алтай//Социологические исследования. 2009. № 3.
- Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. Л., 1990.
- Лыткина Т.С. Трансформация семьи и домашнего хозяйства. Опыт социоэтнологического описания жизни табасаранцев//Социологические исследования. 2008. № 5