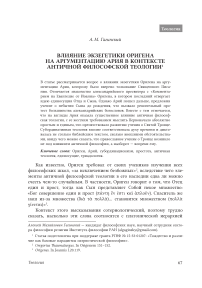Влияние экзегетики Оригена на аргументацию Ария в контексте античной философской теологии
Автор: Гагинский Алексей Михайлович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 4 (75), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о влиянии экзегетики Оригена на аргументацию Ария, которому было вверено толкование Священного Писания. Отмечается знакомство александрийского пресвитера с «Комментарием на Евангелие от Иоанна» Оригена, в котором последний отвергает идею единосущия Отца и Сына. Однако Арий пошел дальше, предложив учение о небытии Сына до рождения, что вызвало решительный протест большинства александрийских богословов. Вместе с тем отмечается, что на взгляды Ария оказала существенное влияние античная философская теология, с ее жестким требованием мыслить Первоначало абсолютно простым и единым, что препятствовало развитию учения о Святой Троице. Субординативная теология вполне соответствовала духу времени и диктовалась не столько библейским текстом, сколько внешними обстоятельствами, ввиду чего можно сказать, что православное учение о Троице возникло не под влиянием античной философии, а наоборот - вопреки ему
Ориген, арий, субординационизм, простота, античная теология, единосущие, триадология
Короткий адрес: https://sciup.org/140223451
IDR: 140223451
Текст научной статьи Влияние экзегетики Оригена на аргументацию Ария в контексте античной философской теологии
начал. Проблема в том, что в наследии Оригена порою встречаются несовместимые идеи, как будто он рассматривал знание лишь как вероятностное (в отличие от Климента), вследствие чего его богословский метод включал перебор различных концепций, с возможностью отказа от тех, которые прежде казались правдоподобными4. Как бы там ни было, относительно его учения о Троице в научной литературе нет единого мнения, вероятно, его не было и в древности, поэтому представляется оправданной точка зрения, согласно которой «ключевые моменты как арианской, так и никейской позиций можно возвести к Оригену»5.
И несмотря на то, что имеются основания сомневаться в субордина-тизме Оригена6, некоторые свидетельства александрийского дидаскала все же позволяют рассматривать его в качестве предшественника Ария.
Ориген-субординационист
Предвосхищая терминологию IV в., Ориген впервые говорит о трех ипостасях: «Мы убеждены, что есть три ипостаси (τρεῖς ὑποστάσεις): Отец, Сын и Святой Дух»7. Однако остается неясность относительно того, какое между ипостасями предполагается отношение, поскольку слова οὐσία, ὑπόστασις и ὑποκείμενον (сущность, ипостась и субстрат) употребляются Оригеном как синонимы8. Это затрудняет интерпретацию данного выражения в никейском смысле, тем более что немного ниже он пишет следующее:
«Поскольку “свет”, в общем и целом, в этом месте (Ин 1.4) — Спаситель, а в кафолическом послании того же Иоанна говорится, что Бог есть Свет (1 Ин 1.5), кое-кто думает и отсюда выводит, что Отец от Сына не отличается по сущности (τῇ οὐσίᾳ μὴ διεστηκέναι τοῦ υἱοῦ τὸν πατέρα), однако тот, кто исследовал более точно и говорит более здраво, скажет, что свет, светящий во тьме и не объятый ею (Ин 1.5), и свет в котором нет никакой тьмы (1 Ин 1.5) — не одно и то же (οὐ ταὐτὸν εἶναι τὸ φαῖνον ἐν τῇ σκοτίᾳ φῶς καὶ μὴ καταλαμβανόμενον ὑπ’ αὐτῆς, καὶ τὸ φῶς ἐν ᾧ οὐδαμῶς ἐστι σκοτία)»9.
Глагол διεστηκέναι (от διίστημι) означает «стоять врозь, расходиться, разделять» и указывает на различие сущностей Отца и Сына, которые по мысли александрийского дидаскала не тождественны (οὐ ταὐτὸν) друг другу. В отличие от трактата «О началах», «Комментарий на евангелие от Иоанна» представляет собой зрелое произведение (230–240-е гг.), сохранившееся на языке оригинала.
В этом тексте Ориген возвращается к своему излюбленному образу, согласно которому Премудрость есть «дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя» (Прем. 7.25). Он замечает по этому поводу: «[Сын] — образ благости Его, сияние не Бога, а славы Его и вечного света Его, дыхание не Отца, а силы Его, чистое излияние вседержавной славы Его и чистое зеркало действия Его»10. Отсюда следует, что между Отцом и Сыном предполагается какая-то дистанция, которая опосредуется силой Отца, поскольку Сын есть дыхание силы Бога.
Значение этого обстоятельства не следует недооценивать: поскольку сущность и сила Отца — не одно и то же, а Сын есть дыхание не Отца, но Его силы, напрашивается вывод, что эта сила выступает в качестве некоего посредника между Отцом и Сыном. В сочинении «О молитве» Ориген утверждает, что «Сын от Отца отличается по сущности и субстрату (ἕτερος… κατ’ οὐσίαν καὶ ὑποκείμενόν ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ πατρὸς)»11. Подобно Филону и Нумению, Ориген называет Сына вторым богом12, что проясняется в свете следующего фрагмента из его сочинения «О началах», сохранившегося в письме императора Юстиниана:
«Бог и Отец, содержащий все, достигает до каждого сущего, сообщая каждому от Своего бытие, которое существует (ἀπὸ τοῦ ἰδίου τὸ εἶναι ὅπερ ἐστίν). Сын меньше Отца, достигая только до разумного (ведь Он — второй от Отца (δεύτερος γάρ ἐστι τοῦ πατρός)). Еще меньше Святой Дух, достигающий только святых. Поэтому сила Отца больше, чем у Сына и Святого Духа (μείζων ἡ δύναμις τοῦ πατρὸς παρὰ τὸν υἱὸν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον); сила Сына больше, чем у Святого Духа; и, опять-таки, сила Святого Духа весьма отлична по сравнению со священным»13.
Ипостаси различны по силе, из чего следует, вероятно, что и природы у них разные. Сын превосходит все тварное «…сущностью, достоинством, силой, божественностью, поскольку Слово одушевлено, и мудростью, но ни в чем не сравнимо с Отцом (οὐ συγκρίνεται κατ’ οὐδὲν τῷ πατρί)»14. Таким образом, в наследии Оригена было достаточно намеков на то, что τρεῖς ὑποστάσεις следует осмыслять в рамках субординативной теологии. Именно поэтому александрийского ди-даскала можно рассматривать в качестве предтечи антиникейских партий. Причем эта сторона его наследия отражает исследователя попытки решить некоторые внутренние проблемы, касающиеся собственно христианского богословия, в то время как обращение Оригена к внешней философии более полно раскрывает его учение о Боге. В частности, полемизируя со стоиками и эпикурейцами, он говорит о простоте и неизменности Бога:
«Пребывая по сущности неизменным (τῇ οὐσίᾳ ἄτρεπτος), Он снисходит до человеческих дел через Провидение и домостроительство. Мы утверждаем, что Бог называется неизменным (ἄτρεπτον), согласно божественным Писаниям, в которых сказано “Ты — тот же” (Пс. 101.28) и “Я не изменяюсь” (Мал. 3.6). А боги Эпикура, состоящие из атомов (σύνθετοι ἐξ ἀτόμων) и разложимые (ἀναλυτοί), поскольку составлены, заботятся о том, чтобы стряхивать с себя атомы, которые вредят им. Но и бог стоиков, поскольку он — тело, когда руководит всем бытием (τὴν ὅλην οὐσίαν), тогда случается мировой пожар, а когда он становится его частями, тогда мир заново устрояется. Они [философы] не смогли прояснить естественное понятие о Боге (τὴν φυσικὴν τοῦ θεοῦ ἔννοιαν), во всем нетленного, простого, несложного и неделимого (ἀφθάρτου καὶ ἁπλοῦ καὶ ἀσυνθέτου καὶ ἀδιαιρέτου)»15.
Ориген воспроизводит тезис Платона о том, что все составное распадается (τὸ δεθὲν πᾶν λυτόν)16, присоединяясь к критике теологии атомистов. Множеству атомных богов средние платоники противопоставляли учение об едином начале, которое отождествлялось с Умом и мыслилось простым и несложным, не составленным из частей, что давало философскому богу бессмертие.
В самом деле, простому по природе ничто не предшествует, а поскольку оно не состоит из элементов, оно не может распасться и погибнуть. Кроме того, Ориген подчеркивает неизменность Бога, которая так же обосновывается Его простотой и заодно подкрепляется ссылками на Священное Писание, которое интерпретируется соответствующим образом. Здесь нужно сделать небольшое отступление и посмотреть, когда в христианское богословие приходит это жесткое требование простоты Первоначала, логической альтернативой которому является теологический атомизм, где боги δύσφθαρτα μέν, οὐκ ἄφθαρτα δέ — хотя и с трудом, но разрушимы17, ибо они состоят из атомов и пустоты, как и все сущее.
Рецепция античной философской теологии
Как ни странно, сама эта тематика не имеет библейских оснований и досталась христианству в наследство от античной философской теологии: ни в Библии, ни в Писаниях мужей апостольских не говорится о простоте Бога. Вместо этого перечисляются различные Его действия: сотворил, сказал, увидел, назвал, поставил, благословил, насадил, произрастил и т. д. (Быт. 1–2). История народа израильского описывается как история взаимоотношений Бога и человека, где обе стороны принимают активное участие, меняют свои взгляды, гневаются, ревнуют и ничуть не напоминают неизменный философский Абсолют. Бог заботится о своих людях или наказывает их, люди верны своему Богу или предают Его. Иными словами, между ними складываются личные взаимоотношения, где Другой не предстает объектом теоретического исследования. Сами условия жизни вынуждали говорить несколько иначе о Боге. Точнее, они вынуждали говорить не о Нем, а с Ним. Абстрактные оппозиции простое/сложное, часть/целое, сущность/свойство, тожде-ственное/иное и даже телесное/бестелесное были важной составляющей античной философской теологии, но для племени, долгие годы скитавшегося по пустыне, такой язык оставался глубоко чуждым.
Однако ситуация меняется в эпоху апологетов (II в.), которые должны были обращаться к языческому миру на понятном для него языке. Таковым в то время был язык философии. И уже Иустин Философ видит свою задачу в том, чтобы «исследовать божественное (ἐξετάζειν περὶ τοῦ θείου)»18. Интересно, что несмотря на значительное влияние философии, Иустин, Афинагор и Феофил не упоминают о божественной простоте (ἁπλοῦς, ἀσύνθετος). Одним из первых заговорил об этом Татиан. Данное обстоятельство примечательно тем, что Татиан известен своим неприятием эллинской культуры, которое с этой точки зрения оказывается достаточно поверхностным. В «Слове к эллинам» он пишет следующее:
«Бог был в начале, а мы приняли, что начало — это сила Слова. Господь вселенной был один, Сам будучи существованием (ὑπόστασις) всего, пока не совершилось творение; поскольку же с Ним была вся сила видимых и невидимых, Он утвердил все вместе с Собою с помощью разумной силы и Слова, которое было в Нем. Волей простоты Его вышло Слово (θελήματι δὲ τῆς ἁπλότητος αὐτοῦ προπηδᾷ λόγος), не проходя через пустоту, Слово становится первородным делом Отца»19.
Татиан в данном случае выражается довольно замысловато. Ясно, что в начале был Бог и с Ним было Слово, с помощью которого Отец все сотворил. Выражение «по воле простоты Его» не вполне понятно, но поскольку речь идет о происхождении Сына от Отца, простоту следует понимать как характеристику Бога. Ввиду того, что Татиан был знаком с сочинениями средних платоников20, можно допустить, что он заимствовал терминологию в современной ему философии.
Как бы там ни было, со второй половины II в. понятие божественной простоты входит в лексикон христианских писателей, что объясняется не только популярностью платонизма, но и широким распространением гностических текстов, в которых теологические постулаты излагались языком философии. Один из ярких тому примеров — «Письмо к Флоре» гностика Птолемея. Автор пишет о том, что существуют благой Бог, Демиург и их противник, при этом первый является простым самосущим светом, а второй — «творцом всего мира и того, что в нем»21. Птолемей пишет:
«Сущность противника — тление и тьма (ведь он материальный и расщепленный), а сущность Отца всего, нерожденного (τοῦ ἀγεννήτου), — нетление и самосущий свет (φῶς αὐτοόν), простой и единовидный (ἁπλοῦν τε καὶ μονοειδές). Сущность же того [Демиурга] произвела некую двойственную силу, а сам он — образ более лучшего [Отца]. Не смущайся, однако, желанием научиться тому, как из единого начала всего, <простого,> (ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς τῶν ὅλων <ἁπλῆς> οὔσης) — которое признаем и в которое веруем, — нерожденного, нетленного и благого, составились эти природы, одна — тления, другая — посредства, утвердились эти иносущные (ἀνομοούσιοι), хотя природе блага свойственно рождать и производить подобное самой себе и единосущное (τὰ ὅμοια ἑαυτῷ καὶ ὁμοούσια)»22.
Из текста видно, что автор использует терминологию средних платоников и достаточно близок к их пониманию иерархической структуры универсума. На это обращает внимание Э. Редд-Галвиц, который проводит параллели между Птолемеем и Нумением из Апамеи (оба автора относятся ко второй половине II в.), отмечая сходство в решении проблемы несовместимости простоты Отца с творением материального мира, ответственность за несовершенство которого возлагалась на посредника Демиурга23. В данном случае трудно говорить о каких-либо конкретных заимствованиях, однако нельзя не отметить определенной близости терминологии и рассматриваемой тематики — типичных для среднего платонизма.
В свою очередь христианские авторы, полемизирующие с гностицизмом, постепенно вовлекались в разговор на темы, которые обсуждали их оппоненты. Важно то, что, принимая или отвергая постановку тех или иных проблем, они заодно формулировали к ним свое отношение и таким образом включались в диалог. В результате чуть более чем за столетие христианские мыслители вполне освоили язык античной философской теологии, они пополнили свой лексикон рядом важных категорий, не знакомых их предшественникам, и порою даже выдвигали новаторские идеи, подобно Клименту Александрийскому, который впервые после досократиков определенно заговорил о беспредельности Бога, предвосхищая в этом Плотина24. Все это давало христианам возможность разговаривать на равных с интеллектуальной элитой того времени, в чем молодая религия остро нуждалась в период гонений. Однако именно это и послужило началом последующих дискуссий в стане христиан, которые попытались рационально зафиксировать основные постулаты своей веры, примером чему служит аргументация Ария, направленная против свтятителя Александра Александрийского, основным нервом которой является требование абсолютной божественной простоты.
Арианский кризис
Если сведения Сократа Схоластика достоверны, то начало арианского кризиса связано со следующими обстоятельствами. Когда александрийский епископ Александр беседовал с подвластными ему клириками, «философствуя о том, что в Троице есть Единица (ἐν Τριάδι μονάδα εἶναι φιλοσοφῶν)»25, пресвитер по имени Арий услышал в этом древнее заблуждение, некогда озвученное Савеллием, который соотносил имена Отца и Сына с образами откровения Бога в истории и проповедовал некоего сыноотца (υἱοπάτωρ)26. Александрийский пресвитер был глубоко возмущен услышанным и вступил в полемику со своим епископом, которая вначале велась устно, затем письменно и вскоре перешла в открытое противостояние.
Главный тезис Ария заключался в том, что если Сын рожден, то до рождения Его не было: никогда Сына не было (ὅτι ἦν ὅτε οὐκ ἦν ὁ Υἱός)27. По-видимому, Арий таким образом хотел подчеркнуть ипостасное (=сущностное) различие Отца и Сына, опасаясь того, что из утверждений святителя Александра следует их тождество. При отсутствии различия понятий «сущность» и «ипостась» тезис о единосущии Отца и Сына действительно может быть понят как указание на слияние двух ипостасей-сущностей во что-то единое, таким образом, появление в этой полемике фигуры Савеллия вполне закономерно. Сведения Сократа согласуются с тем, что известно о теологии Ария. В своем программном сочинении «Талия» александрийский пресвитер разъясняет свою позицию:
«Он, конечно, Бог, из-за чего пребывает для всего неизреченным (ἄρρητος), ни равного, ни подобного, ни подобославного нет Ему одному. Нерожденным же Его называем из-за природы рожденной; безначальным Его воспеваем из-за имеющего начало, вечным же Его почитаем из-за рожденного во времени. Сына положил началом созданного Безначальный и, чадотворив, Себе же приял в Сына, который не имеет свойства, для Бога по бытию особенного (ἴδιον οὐδὲν ἔχει τοῦ θεοῦ καθ’ ὑπόστασιν ἰδιότητος), ибо не равен, да и не единосущен (οὐδὲ ὁμοούσιος) Ему. <…> Троица — в славах неподобных, не смешаны между собой ипостаси их (τριάς ἐστι δόξαις οὐχ ὁμοίαις, ἀνεπίμικτοι ἑαυταῖς εἰσιν αἱ ὑποστάσεις αὐτῶν), одна преславнее другой по славе до бесконечности. Отец по сущности (κατ’ οὐσίαν) чужд Сына, пребывая безначальным. Пойми, что единица была, а двоицы не было, пока не осуществилась (ἡ μονὰς ἦν, ἡ δυὰς δὲ οὐκ ἦν, πρὶν ὑπάρξῃ). Теперь, когда еще нет Сына, Отец есть Бог. Затем не-сущий Сын (ὁ υἱὸς οὐκ ὢν) стал по Отчему изволению единородным богом (μονογενὴς θεός), но оба чужды друг другу…»28.
Как и многие доникейские авторы, Арий полагает, что «Отец есть Бог»; желая подчеркнуть Его единство, он говорит о том, что Сын не существовал: если Отец безначален, то Сын имеет начало, а если Он имеет начало, стало быть, когда-то Его не было — «единица была, а двоицы не было».
Нужно отметить, что Арий признает само по себе учение о Троице, но понимает его таким образом, что ипостаси не единосущны и не смешиваются между собой. Для того чтобы усилить этот тезис, Арий говорит о небытии Сына до рождения, что показалось совершенно неприемлемым большинству александрийских богословов, опиравшихся на почтенную экзегетическую традицию, согласно которой Отец никогда не был без своей Премудрости29. Ситуация, однако, осложнялась тем обстоятельством, что в рамках этой традиции было трудно решить вопрос о происхождении Сына. В частности, поскольку Арию было вверено толкование Священного Писания, ему был хорошо известен «Комментарий на Евангелие от Иоанна» Оригена, в котором александрийский дидаскал полемизирует с гностиком Ираклеоном, преемником Птолемея, учившего о том, как отмечалось выше, что Благо рождает «подобное самому себе и единосущное (τὰ ὅμοια ἑαυτῷ καὶ ὁμοούσια)». Ориген крайне резко выступает против этого учения, он пишет следующее:
«Иные интерпретируют «исшел от Бога» (Ин. 8.42; 16.27–28) как «рожден от Бога» (1 Ин. 3.9), откуда следует заключить, что Сын рожден из сущности Отца (ἐκ τῆς οὐσίας... τοῦ πατρὸς), как если бы Бог уменьшился и лишился по сущности того, что имел прежде, чем родил Сына, — словно кто-то может думать об этом как о беременных. Им следует говорить тогда, что Отец и Сын — тело, и что Отец разделился (ἀκολουθεῖ δὲ αὐτοῖς καὶ σῶμα λέγειν τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν καὶ διῃρῆσθαι τὸν πατέρα), что являет взгляды людей, которым и во сне не снилась невидимая и бестелесная природа (φύσιν ἀόρατον καὶ ἀσώματον) — подлинная сущность (οὖσαν κυρίως οὐσίαν). Понятно, что они располагают Отца среди телесного (ἐν σωματικῷ τόπῳ), а Сын пришел в жизнь, переходя телесно из одного места в другое (τόπον ἐκ τόπου ἀμείψαντα σωματικῶς), а не из одного состояния в другое (κατάστασιν), насколько мы поняли»30.
Этот комментарий важен по той причине, что Арий будет использовать схожую аргументацию, вероятно, напрямую заимствовав ее у Оригена. Первое, что обращает на себя внимание в данном фрагменте — это настойчивое (даже несколько избыточное) отрицание телесности рождения Сына. Выражение «из сущности Отца» интерпретируется исключительно в материальном смысле, как будто его нельзя понять как-либо иначе, представляя рождение Сына по аналогии с человеческим, вследствие чего Бог оказывается телесным и делимым на части.
Вероятно, обусловлено это тем, что у гностиков речь шла о причастии человека сущности Бога. Характерно, что Евсевий Кесарийский после Собора 325 г. стремится разъяснить именно этот момент: выражение «из сущности Отца» не означает, — будет писать он, — что Сын есть часть Отца (οὐ μὴν ὡς μέρος ὑπάρχειν τοῦ πατρός) или часть Его сущности (οὐ μὴν μέρος αὐτοῦ τῆς οὐσίας τυγχάνειν), равным образом и термин «единосущие» следует понимать не в телесном смысле (οὐ κατὰ τὸν τῶν σωμάτων τρόπον)31. Сегодня это звучит несколько странно, но во второй половине III и в первой половине IV вв. данные выражения устойчиво ассоциировались с материальным разделением и их пригодность для богословия казалась крайне сомнительной.
Отвергая тезис о рождении «из сущности», Ориген в то же время утверждал, что Сын — от силы Отца, которая выступает в качестве посредствующего звена между Богом и миром, ибо если Сын не есть ни сущность, ни сила Отца, то нет оснований утверждать, что Он ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός. Более того, как и многие мыслители этой эпохи, Ориген не проводил теоретического различия между понятиями рождения (γεννητός) и творения (γενητός)32, что позволило Арию поправить Оригена и сделать вывод о том, что до рождения, или сотворения, Сына не было:
«О чем же мы говорим и мыслим, учили и учим? О том, что Сын не есть Нерожденный и никоим образом не есть часть Нерожденного и не из какого-либо субстрата (ὁ υἱὸς οὐκ ἔστιν ἀγέννητος οὐδὲ μέρος ἀγεννήτου κατ’ οὐδένα τρόπον, οὔτε ἐξ ὑποκειμένου τινός), но по воле и совету (θελήματι καὶ βουλῇ) стал прежде времен и прежде веков полный Бог, единородный, неизменяемый (πλήρης θεός, μονογενής, ἀναλλοίωτος); но прежде, чем рожден, или сотворен, или определен, или основан, Он не был, ибо не был Нерожденным (πρὶν γεννηθῇ ἤτοι κτισθῇ ἢ ὁρισθῇ ἢ θεμελιωθῇ, οὐκ ἦν· ἀγέννητος γὰρ οὐκ ἦν). Нас преследуют за то, что мы говорим: Сын имеет начало, а Бог — безначален (ἀρχὴν ἔχει ὁ υἱός, ὁ δὲ θεὸς ἄναρχός ἐστιν). Поэтому нас преследуют и за то, что мы говорим: [Сын] из не-су-щего (ἐξ οὐκ ὄντων ἐστίν), а говорим мы так потому, что Он и не часть Бога, и не из какого-либо субстрата (οὐδὲ μέρος θεοῦ ἐστιν οὐδὲ ἐξ ὑποκειμένου τινός). За это нас гонят»33.
Поскольку Арий говорит о том, что Сын «рожден, или сотворен, или определен, или основан» по воле и совету Отца, можно сделать вывод, что он не проводит теоретического различия между этими понятиями, подразумевая следующее: до рождения Сына не было, поскольку нелепо полагать, что нечто может существовать до того, как оно сотворено. При этом нужно обратить внимание, что во всех сохранившихся текстах Ария центральным является утверждение о том, что Сын не есть часть Бога (οὐδὲ μέρος θεοῦ ἐστιν) и не происходит из какого-либо предшествующего субстрата, наподобие несотворенной материи, о которой говорили эллинские философы34. Очевидно, что к этому времени постулат божественной простоты стал восприниматься как что-то самоочевидное, причем в аргументации Ария он имеет первостепенное значение.
По всей видимости, стремясь ответить на вопрос о происхождении Сына, обсуждавшийся в школе св. Лукиана Антиохийского, Арий встает перед следующим выбором: Сын мог возникнуть (1) из сущности Отца, (2) из совечной Богу материи, (3) из не-сущего. О совечной Демиургу материи учили язычники, но христиане никогда не разделяли этого взгляда, поэтому его следует сразу отвергнуть.
Предположение, что Сын рожден из сущности Отца, не устраивает Ария по той причине, что Сын окажется частью Бога, Который станет сложным и изменяемым, подобно тому, как это было у стоиков и эпикурейцев, которых критиковал Ориген. Следовательно, остается допустить, что Отец сотворил Сына ἐξ οὐκ ὄντων. Возможно, Арий понимал, что делает весьма смелое утверждение, идущее вразрез распространенному осмыслению статуса Сына как вечной Премудрости, но иные альтернативы казались ему неприемлемыми:
«Ведаем единого Бога… родшего единородного Сына прежде веков времен… своей волей (ἰδίῳ θελήματι) утвердив непреложное и неизменяемое совершенное творение Божие (κτίσμα τοῦ θεοῦ), однако не как одно из творений, рождение, но не как одного из рожденных: не исторжение (προβολὴν), каково рождение Отца по учению Валентина; не единосущная часть (μέρος ὁμοούσιον), каково рождение от Отца по изъяснению Манихея; не сыноотец (υἱοπάτορα), как наименовал Савеллий, разделяя единицу; не светильник от светильника или факел, разделенный на два, согласно Гиеракасу; не прежде сущего, впоследствии рожденного (οὐδὲ τὸν ὄντα πρότερον ὕστερον γεννηθέντα), или возведенного в Сына <…> Если же сказанное «из Него», «из чрева», «от Отца исшел и иду» (Ин. 8.42; 16.27–-28) иные понимают как часть самого единосущного и как исторжение (ὡς μέρος αὐτοῦ ὁμοουσίου καὶ ὡς προβολὴ), то Отец будет сложным, делимым, изменяемым, телесным (σύνθετος… καὶ διαιρετὸς καὶ τρεπτὸς καὶ σῶμα)… бестелесный Бог потерпит сообразное телу»35.
Этот фрагмент следует рассматривать в контексте реалий древней Александрии. Известно, что в III в. здесь жили последователи Ираклеона, который вместе с Птолемеем считался учеником гностика Валентина36; в 60-х гг. того же столетия в Александрию перебрались манихеи, взгляды которых нашли широкую поддержку местного населения37. И те, и другие не разделяли учения о едином Боге и использовали термин «единосущие» в контексте причастности человека Богу38. Как и Ориген, который критиковал гностиков, Арий подчеркивает, что Ин. 8.42 и 16.27– 28 нельзя интерпретировать в смысле единосущия Отца и Сына. Будучи учителем и проповедником в Александрии, Арий должен был иметь общее представление об этих движениях, конкурировавших с христианством того времени, на что и указывают его ссылки на Савеллия, Валентина, Мани и Гиеракаса. По-видимому, в этот ряд Арий поместил и учение Александра39.
В самом деле, слова александрийского епископа могли быть поняты в духе савеллианства в том случае, если Арий не различал понятия «сущность» и «ипостась»40, ввиду чего выражение «в Троице есть Единица» могло звучать для него так, словно три отдельные сущности отождествляются в одну ипостась-сущность. То, чему учил александрийский епископ, с одной стороны, было вполне традиционным для христианства, ведь даже Арий не отрицал термин «Троица», с другой же, это оказалось настолько трудным для понимания, что вызвало решительный протест ряда клириков.
Проблема состояла в том, что нужно было концептуально точно и логически непротиворечиво зафиксировать единство и троичность Бога, не имея для этого соответствующей терминологии, причем античная философия не располагала для этого какими-либо подходящими примерами, поэтому Арий просто не мог с чем-либо соотнести или сравнить то, о чем говорил святитель Александр. Точнее говоря, те воззрения, с которыми александрийский пресвитер пытался соотнести учение своего епископа, совершенно ему не соответствовали. Ясно, что Арию была вполне понятна субординативная теология предшествующих христианских писателей; судя по всему, он был неплохо знаком с построениями платоников, говоривших о соподчиненных началах; вероятно, живя в поликультурной и многонациональной Александрии, он имел представление о различных религиозных культах и триадах богов; единственное, чему он не мог научиться откуда-то извне, это учению о том, что «в Троице есть Единица», что Отец и Сын суть один простой Бог.
Этот догмат до сих пор является камнем преткновения для многих, поэтому возникновение арианского кризиса нельзя считать чем-то случайным. Однако не следует забывать и о том, что и пресвитер Александр не смог предложить достаточно убедительного обоснования своих взглядов, поскольку так же не имел под рукой подходящего концептуального аппарата, с помощью которого можно было бы выразить учение о Святой Троице. Не различая понятий «сущность» и «ипоста-сь»41, он говорил о том, что «Отец и Сын — две вещи, нераздельные между собой (ἀλλήλων ἀχώριστα πράγματα δύο)», между которыми не только нет какого-либо промежутка (διάστημα), но его даже и помыслить нельзя42.
Понятно, что это могло быть превратно истолковано в духе савелли-анства, особенно в устной беседе. В библейском тексте и последующей доникейской литературе, вне всяких сомнений, можно найти указания на троичность Бога, но это не фиксируется рационально и не разъясняется с той степенью ясности, которая требовалась в IV в. К примеру, Игнатий Антиохийский может говорить о «Христе, Отце и Духе», Климент Римский о том, что «жив Бог, и жив Господь Иисус Христос, и Дух Святой»43, но при этом они совершенно не стремятся прояснить в каких отношениях между собой находится эта Троица, какой они сущности и т. д. Тем не менее, к IV в. это станет насущной необходимостью.
Заключение
В античной философской теологии созревает определенное представление о том, каким образом необходимо мыслить божественное. А именно, речь о Первоначале, как бы оно ни осмыслялось, будь то Пер-водвигатель или Благо, ведется на языке абстрактных оппозиций, таких как простое/сложное, часть/целое, единое/многое, сущность/свойство, тождественное/иное, телесное/бестелесное. При этом божественное мыслится как нечто простое и неизменное, в противном случае нужно было бы признать какое-то более древнее начало, как это сделал Анаксимен, который «говорил о том, что начало — это беспредельный воздух, из которого происходит и становящееся, и ставшее, и грядущее, и даже боги и божественное (καὶ θεοὺς καὶ θεῖα)»44.
Разумеется, христианские мыслители стремились избегать такой примитивной теологии. Наработки платоников и перипатетиков, философский язык в целом, его категориальный аппарат, постепенно становятся инструментом для выражения христианской веры. Бог мыслится простым и единым, что, с одной стороны, является аксиомой для всех христианских мыслителей, тогда как с другой, до определенной степени затрудняет развитие учения о Святой Троице. Под влиянием философии евангельскую весть об Отце, Сыне и Святом Духе некоторые александрийские богословы интерпретировали в рамках платонической иерархии первоначал, что вступало в противоречие с библейским монотеизмом и требовало признания некоего «второго бога». Трудность заключалась в том, как примирить этот монотеизм с Божеством Христа, Которого нельзя отождествить с Отцом, с одной стороны, и нельзя считать частью Бога, с другой. Субординативная теология вполне соответствовала духу времени и диктовалась не столько библейским текстом, сколько внешними обстоятельствами, ввиду чего можно сказать, что православное учение о Троице возникло не под влиянием античной философии, а наоборот — вопреки ему.
Список литературы Влияние экзегетики Оригена на аргументацию Ария в контексте античной философской теологии
- Athanasius. De synodis-De synodis Arimini in Italia et Seleuciaein Isauria//Athanasius Werke/Hrsg. H. G. Opitz. Berlin, 1940. Vol. 2.1. S. 231-278.
- Clemens Romanus. Ad Corinthios-Clément de Rome. Épître aux Corinthiens//Sources chrétiennes/Ed. A. Jaubert. Paris, 1971. N 167. P. 98-204.
- Democritus -Лурье С. Я. Демокрит: Тексты. Перевод. Исследования. Л., 1970.
- DK -Die Fragmente der Vorsokratiker/Hrsg. H. Diels, W. Kranz. Berlin:Weidmann, 1951-19526. Bd. 1. 618 S.
- Eusebius. De ecclesiastica theologia -Eusebius Werke/Hrsg. E. Klostermann,G. C. Hansen. Berlin, 1972. Bd 4. S. 61-182.
- Eusebius. Demonstratio evangelica -Eusebius Werke/Hrsg. I. A. Heikel. Leipzig,1913. Bd. 6. S. 1-492.
- Eusebius. Epistula ad Caesarienses-Athanasius Werke/Hrsg. H. G. Opitz.Berlin, 1940. Vol. 2.1. S. 28-31.
- Gregorius Taumaturgus. In Origenem -Grégoire le Taumaturge. Remerciementà Origène suivi de la letre d’Origène à Grégoire//Sources chrétiennes/Ed. H. Crouzel.Paris, 1969. N 148. P. 94-182.
- Ignatius Antiochenus. Ad magnesios -Ignace d’Antioche, Polycarpe de Smyrne.Letres. Martyre de Polycarpe//Sources chrétiennes/Ed. P. T. Camelot. Paris, 1969. N10. P. 80-92.
- Justinus Martyr. Dialogus -Dialogus cum Tryphone/Ed. Marcovich M. -Berlin;New York, 1997.
- Marcellus Ancyranus. Fragmenta -Markell von Ankyra: Die Fragmente & DerBrief an Julius von Rom/Hrsg. Markus Vinzent. Leiden, 1997.
- Origenes. Contra Celsum -Origène. Contre Celse//Sources chrétiennes/Ed.M. Borret. Paris, 1969. N 150. P. 14-352.
- Origenes. De oratione -Origenes Werke/Hrsg. P. Koetschau. Leipzig, 1899.Vol. 2. S. 297-403.
- Origenes. De principiis -Origenes vier Bücher von den Prinzipien/Hrsg. H. Gör-gemanns, H. Karpp. Darmstadt, 1976. S. 462-560, 668-764.
- Origenes. Fragmenta -Origenes vier Bücher von den Prinzipien/Hrsg. H. Gör-gemanns, H. Karpp. Darmstadt, 1976. S. 82-812.
- Origenes. In Joannis -Origène. Commentaire sur saint Jean (lib. 1, 2, 4, 5, 6, 10,13)//Sources chrétiennes/Ed. C. Blanc. Paris, 1966; 1970; 1975. Vol. 120, 157, 222.
- Plato. Respublica -Platonis opera/ed. J. Burnet. Oxford: Clarendon Press, 1902.Vol. 4. P. 327a-621d.
- Plato. Timaeus -Platonis opera/ed. J. Burnet. Oxford: Clarendon Press, 1902.Vol. 4. P. 17a-92c
- Ptolemaeus. Ad Floram -Ptolémée. Letre à Flora//Sources chrétiennes/Ed.G. Qispel. Paris, 1966. N. 24 bis. P. 50-72.
- Socrates. Historia ecclesiastica -Socrates’ ecclesiastical history/Ed. W. Bright.Oxford: Clarendon press, 1893. P. 1-330.
- Tatianus. Oratio ad Graecos -Die ältesten Apologeten/Hrsg. E. J. Goodspeed.Götingen, 1915. S. 268-305.
- Tertullian. Adversus valentinianos -Patrologia Latina. Paris, 1844. Vol. 2. Col.538-594.
- Teodoretus Cyrrhensis. Historia ecclesiastica -Teodoret. Kirchengeschichte/Hrsg.L. Pamentier, F. Scheidweiler. Berlin, 1954. S. 1-349.
- Zacharias. Capita VII contra Manichaeos -Lieu S. N.C. An Early ByzantineFormula for the Renunciation of Manichaeism//Jahrbuch für Antike und Christentum.Münster, 1983. Bd. 26. S. 176-213.
- Boularand E. L’hérésie d’Arius et la "foi" de Nicée. Paris, 1972.
- Elze M. Tatian und seine Teologie. Götingen, 1960.
- Hanson R. Did Origen Teach that the Son is ek tes ousias of the Father?//OrigenianaQarta/Hrsg. L. Lies. Innsbruck; Wien, 1987. S. 201-202.
- Hanson R. P.C. Te Search for the Christian Doctrine of God: The Arian Controversy 318-381. Edinburg, 1988.
- Lyman R. Arians and Manichees on Christ//Journal of Teological Studies.Oxford, 1989. Vol. 40, N. 2. P. 493-503.
- Radde-Gallwitz A. Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa, and the Transformation of Divine Simplicity. Oxford university press, 2009.
- Ramelli I. Origen’s Anti-Subordinationism and its Heritage in the Niceneand Cappadocian Line//Vigiliae Christianae. Leiden, 2011. Vol. 65. P. 21-49.
- Болотов В. В. Учение Оригена о Святой Троице//Он же. Собрание церковно-исторических трудов. М., 1999. Т. 1.
- Бэр И. Формирование христианского богословия: Путь к Никее. Тверь,2006.
- Кирилл(Говорун), архим. Понятие«ипостась» в восточном христианском богословии (в ст. Ипостась)//Православная энциклопедия. М., 2011. Т. 26.С. 183-190.
- Флоровский Г. Тварь и тварность//Он же. Христианство и цивилизация:избранные труды по богословию и философии. СПб., 2005. С. 280-315.
- Шуфрин А. М. Гнозис, богоявление, обожение: Климент Александрийский и его источники. М., 2013.