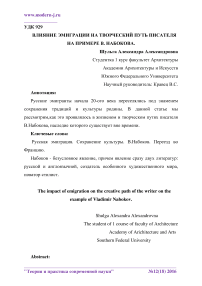Влияние эмиграции на творческий путь писателя на примере В. Набокова
Автор: Шульга А.А.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 12-2 (18), 2016 года.
Бесплатный доступ
Русские эмигранты начала 20-ого века переселялись под знаменем сохранения традиций и культуры родины. В данной статье мы рассмотрим,как это проявлялось в жизненом и творческом путях писателя В.Набокова, наследие которого существует вне времени.
Набоков - безусловное явление, причем явление сразу двух литератур: русской и англоязычной, создатель особенного художественного мира, новатор-стилист
Короткий адрес: https://sciup.org/140268000
IDR: 140268000
Текст научной статьи Влияние эмиграции на творческий путь писателя на примере В. Набокова
Влияние эмиграции на творческий путь писателя на примере В. Набокова.
Историю зарубежной русской литературы, равно и как историю самой эмиграции как массового явления, принято начинать с 1920 г. по окончании гражданской войны, когда рядом последовательных эвакуационных волн множество русских было выброшено за пределы родины. Литература русского Зарубежья выдвинула немало писателей, которые сформировались в этих условиях.
С 1921 г. организовалось несколько центров русского места жительства в Европе с собственной культурной жизнью: газетами, журналами, книгоиздательствами, школами, даже университетами и научными институтами. Центрами были Париж, Берлин, Прага, Белград, София. Позже политическим центром эмигрантов из России, их неофициальной столицей станет Париж. Как описывают современники эмигрантов: "Внутри столицы Франции образовался русский городок. Его жители могли почти не соприкасаться с французами. По воскресеньям и праздникам они ходили в русские церкви, по утрам читали русские газеты, покупали провизию в русских лавочках и там узнавали интересовавшие их новости; закусывали они в русских ресторанах и дешевых столовых, посылали детей в русские школы; по вечерам они могли ходить на русские концерты, слушать лекции и доклады и участвовать в собраниях всевозможных обществ и объединений... В эти годы в Париже было более трехсот организаций. Все эти общества устраивали заседания, обеды, "чашки чая", служили молебны и панихиды..." [1]
Существует деление на две группы поколения писателей первой волны русской эмиграции. Определением служит не сколько возраст писателей (годы рождения поэтов и прозаиков, которых традиционно относят к "молодому поколению" попадают на конец девяностых годов и начало XX в.), но и тот факт, что «старшие" попали в эмиграцию известными и сложившимися писателями, а "младшие" начали творческую деятельность уже за границей.
К «старшим» прозаикам относят таких писателей, как М. Алданов, И. Бунин, А. Куприн (который в 1937 г. вернулся в Россию И. Шмелев А. Аверченко, А. Амфитеатров, М. Арцыбашев, Г. Гребенщиков и других. Среди поэтов старшего поколения наиболее известны К. Бальмонт, И. Северянин М. Цветаева (которая в 1939 г. вернулась в Россию), Саша Черный.
Прозаики - младшие это Г. Газданов, В. Набоков, В. Яновский. Среди поэтов младшего поколения наиболее известны Г. Адамович, И.
Одоевцева, Б. Поплавский, П. Ставров. А. Белый, А. Толстой, В. Шкловский, И. Эренбург и некоторые другие какое-то время творили за границей, а затем вернулись в Россию. Последние годы жизни провел за границей Л. Андреев. Позже других писателей эмигрировал Е. Замятин (в 1932 г.).
Важным отличием формирования русской литературы за рубежом в период первой волны эмиграции — это сохранение традиций русской литературы, культуры, которые в социалистической России подвергались тщательной идеологической чистке
Русские писатели в эмиграции старались сохранить понимание роли искусства как роли духовной и нравственной: литература - не литература сама по себе; а оживление бывшей России, ее особого образа, одной из главных черт которого являлось православие. В творчестве И. Шмелева образ православной России показан особенно ярко.
Желание увековечить российские традиции, было обусловлено не только внутренними причинами, развитиям литературного процесса, но и внешними причинами: русская интеллигенция была насильственно перемещена за пределы родины. Произошел искусственный разрыв живого единого тела нации. В этой ситуации представители первой волны русской эмиграции осознавала себя не только носителями русской классической традиции, а защитниками. Творческая интеллигенция видела свое предназначение в сохранении того что планомерно и целенаправленно искажалось, и уничтожалось на родине. В претворении этой цели виделась единственная возможность сохранение разрушенного национального единства Удаленность "Мы не в изгнании, мы в послании", - говорили и верили многие.
Удаленность русской эмиграции от России вызывало стремление утвердить свою национальную принадлежность, сохранить национальные черты в культуре. Своеобразие заключалось в том, что русская литература на рубеже веков развивалась в плотном сотрудничестве с западной литературой. В двадцатые годы, столкнувшись с западноевропейской культурой, русская литература инстинктивно стремится отделиться, пытаясь сохранить себя как национальное явление.
Это только одна из сторон развития русской литературы за рубежом, определяемая старшим поколением эмиграции. В молодом поколении литературный консерватизм отсутствовал. Некоторые представители (В. Набоков) пытались оторваться от традиций русской классической литературы. Они выбирали новый альтернативный путь в большое искусство. Но были и другие, которые пытались соединить в своем творчестве традиции и русской и западной литературы. Это, например, прозаик Г. Газданов.
Писатели младшего поколения столкнулись с серьезными трудностями. В 1932 г. в статье, озаглавленной "Подвиг", В. Ходасевич писал: "Молодые писатели не пользуются той любовью, той заботой, которой должны бы пользоваться как со стороны публики, так и внутри самой литературы. Вместе с моральной тяжестью это невнимание ложится на плечи молодежи тяжестью материальной. Молодежь наша не только не может жить литературным трудом (это становится трудно даже и для старшего поколения), но и вынуждена писать урывками, в часы после одуряющей работы в конторе, на заводе, после сидения за рулем, после изнурительного труда. Она живет в полунищете, она недоедает, недосыпает, она плохо одета, она не может позволить себе купить нужную книгу или пойти в театр" [2].
Но, невзирая на все препятствия, эмигранты продолжали писать. И если старшее поколение шло по пути, проложенному русской классической литературой, то молодые ищут новые формы. А.М. Ремизов в 1931 г. писал: "Самым выдающимся явлением за пять лет для русской литературы я считаю появление молодых писателей с западной закваской. Такое явление могло произойти только за границей: традиция передается не из рук в руки, а непосредственно через язык и памятники литературы в оригинале. Для русской литературы это будет иметь большое значение" [3]. Сегодня уже можно сказать о том, что слова Ремизова оказались пророческими.
Рассмотрим одного из самых ярких представителей "молодого поколения" "первой волны" эмиграции В. Набокова. Родившийся в самом конце прошлого века, 10 (22) апреля 1899 года, в Петербурге и скончавшийся 2 июля 1977 года в Монтрё, в Швейцарии, Владимир
Владимирович Набоков и по сию пору остается феноменом, неразгаданной загадкой на литературном небосклоне. Поэтому так неправдоподобно широк спектр оценок набоковского наследия - от безоговорочного восхищения до полного отрицания.
Набоков родился в родовитой и богатой дворянской семье, с длинным списком служилых предков. Дед его Дмитрий Николаевич был министром юстиции во время судебных реформ, в конце царствования Александра II и начала - Александра III. В «Заметке о моем отце» (Владимире Дмитриевиче) Набоков вспоминал: «Дед В. Д., Николай Александрович Набоков,- офицер флота, исследователь Новой Земли (1817 г.), где одна из рек носит его имя (а его брат, генерал Иван Александрович Набоков, был комендантом Петропавловской крепости). Родителями его матери были Фердинанд Николаевич Корф и Нина Александровна Корф, урожденная Шишкова (эту последнюю фамилию сам автор, В. В. Набоков, использовал недолгое время в качестве поэтического псевдонима - «Василий Шишков»). Елена Ивановна Рукавишникова - мать писателя, веселая и ласковая, аристократичная женщина, была по одной линии внучкой знаменитого сибирского золотопромышленника Василия Рукавишникова, а по другой - внучкой президента Императорской Военно-медицинской академии Н. И. Козлова».
Отец его - Владимир Дмитриевич, отказавшийся от чиновной карьеры адвокат, принципиальный англоман и один из лидеров партии «народной свободы» (в просторечии «кадеты») - заместитель председателя ее ЦК, вместе с другими кадетскими вождями V П. Н. Милюковым, А. И. Шингаревым, В. И. Гессеном отстаивал необходимость для России конституционных свобод (за что даже поплатился в 1908 году, после известного Выборгского воззвания кадетов, прозванного в консервативных кругах «Выборгским пирогом», трехмесячным заключением в «Крестах»). Он был законным наследником русской либеральной интеллигенции, сочетавшей в себе бытовое барство, привычку к комфорту с народолюбием, и стремился проявлять свое вольномыслие. Юный Набоков воспитывался прежде всего, как «гражданин мира». Воспитанием мальчика занимались многочисленные гувернеры, гувернантки и домашние учителя. Набоков с раннего детства много читал, рано изучил английский и французский языками, учился рисованию, занимался теннисом велосипедом, шахматами, затем - особенно страстно и на всю жизнь - энтомологией, продолжив образование в престижном Тенишевском училище, которое окончил до революции. Тенишевское училище отличалось внесословной демократичностью и высоким уровнем образования.
Первоначальные впечатления, чувство России и всего русского не могли обойти Набокова. Родина оставалась в его душе, и ностальгические воспоминания о ней прорываются до конца дней писателя, хотя и вынужденно окостеневая, окаменевая, превращаясь в итоге в подобие того «саркофага с мумией» России, который хранит у себя один из набоковских героев.
После свершения октябрьского переворота семья Набоковых перебирается в Крым. Там отец писателя занимал пост министра юстиции Крымского краевого правительства. Весной 1919 г. Набоков вместе с родителями отправляется в эмиграцию. В 1922 г. Набоков окончил Кембриджский университет. Там он изучал зоологию и французскую литературу. Тогда же Набоков переехал в Берлин, где жила его семья. Писать он начал еще в России, где была напечатана небольшая книжка его стихов. Эта книга была посвящена первой любви Набокова и как он сам ее описывал представляла "банальные любовные стихи".
За рубежом В. Набоков начал печататься в 1920 г., под псевдонимом "В. Сирин". С течением времени Набоков начинает писать прозу, пишет рассказы.
Между 1925 и 1940 гг. Набоков написал девять романов, которыми завоевал как у критики, так и у читателей лидирующее место среди молодых зарубежных писателей. Это "Машенька" (1926), "Король, дама, валет" (1928), "Защита Лужина" (1930), "Соглядатай" (1930), "Подвиг" (1932), "Камера обскура" (1932), "Отчаяние" (1934), "Приглашение на казнь" (1935), "Дар" (1937 -1938).
В 1938 г. Набоков переезжает в Париж, а в 1940 г. в Америку. Свои произведения Набоков собственным именем начинает подписывать только, живя в Америке. И именно с этого момента он считает себя уже не русским, а американским писателем. В 1938 г. Набоков пишет роман на английском языке - "Истинная жизнь Себастьяна Найта". Другие: "Под знаком незаконнорожденных", "Лолита", "Пнин", "Бледный огонь", "Ада", "Прозрачные предметы", "Посмотри на арлекинов", "Другие берега" – были написаны Набоковым, проживая в США и Швейцарии.
Рассмотрим тот период жизни и творчества Набокова, когда он считал себя русским писателем. Это тот период, когда он творил под псевдонимом «Сирин».
Все критики восхищались его "замечательным", "оригинальным" писательским даром. Сирин удивлял "творческой плодовитостью», и мастерством, "виртуозным обращением со словом и даром композиции". Но отдавая дань "блеску сиринского таланта, его единственности, его непохожести ни на одного из предшественников в русской литературе", критики "старшего поколения" эмиграции обвиняли писателя в "нерусскости". Непростое отношение Набокова к русской классической традиции, отсутствие тесных связей с классикой воспринимались как недостаток; признание его "нерусскости" являлось обвинением.
«Старших» эмигрантов волновало то, что талант Набокова протекает "вне большого русла русской литературы" (М. Цетлин). Признание "нерусскости" вызывал резкое неприятие как проявление "намечающейся бездуховности" (З. Шаховская). "Сирин - писатель эмиграции, не только почти совершенно оторванный от живых российских вопросов, но и стоящий вне прямых влияний русской классической литературы" (М. Осоргин); "все наши традиции в нем обрываются" (Г. Адамович). Одним из жестких воззрений является точка зрения Г. Струве: "У Сирина отсутствует, в частности, столь характерная для русской литературы "любовь к человеку" ... почти во всех персонажах его позднейших романов и рассказов есть что-то ущербное, что-то от моральных уродов и недоносков ... У персонажей Сирина просто нет души" [4].
Одобрение критиков было общим до тех пор, пока речь шла об отдельных деталях, образах, приемах, "изобразительной силе", даре "внешнего выражения", а также о наблюдательности Сирина, меткости его взгляда. Известный критик "первой волны" П. Бицилли в 1939 г., говорил, что, в работе с языком "Сирин идет так далеко, как, кажется, никто до него" [5]. Критики Сирина отчасти понимали, что начинается новая литература на русском языке, с новым взглядом к миру и человеку, не укладывающимся в привычный пафос "любви к человеку". Они не хотели мириться с таким противоречием: талантливо, но бессодержательно, красочно, но бесцельно. Такой художественный парадокс пытаются понять критики и до сегодняшнего времени - теперь уже не только на зарубежном литературнокритическом пространстве, но и в России. Но сегодня картина вряд ли стала яснее.
В российской критике существуют две позиции в отношении к творчеству Набокова. Одна проявляет себя в работах В.И. Сахарова [6]. Другая, разрабатывается в статьях Вик. Ерофеева [7], «оправдывает» Набокова. Набоков в своих позднейших выступлениях надеялся, что "когда-нибудь появится переоценщик, который объявит, что я не был легкомысленной жар-птицей, а наоборот строгим моралистом, который награждал грех пинками, раздавал оплеухи глупости, высмеивал вульгарных и жестоких и придавал высшее значение нежности, таланту и гордости" [8]. Так как в лице Вик. Ерофеева Набоков, все таки нашел ожидаемого им "переоценщика", интересно остановиться на основных положениях его "защитной" позиции.
"Я убежден в том, - пишет Вик. Ерофеев, - что гордая, одинокая, независимая личность набоковского лирического героя, всегда послужит коррективом к излишне поспешным попыткам писателей отказаться от личной ответственности, записавшись в очередную организованную экскурсию в поисках коллективного "парадиза", что сдержанное набоковское "я", отчужденное и от соборного сознания "мы" в русском реалистическом романе, и от "мы" "железных батальонов рабочих", -пример воспитания собственного взгляда на мир, умения трезво оценить себя и полагаться на собственные "слабые силы". Набоковский роман, как я его понимаю, - это прежде всего роман воспитания "я", то есть один из вариантов воспитания ..." [9].
Итогом социально-философских проблем творчества Набокова является конфликт между "я" и "мы", который был актуальным в период становления новой идеологии. Вспомним "Мы", вынесенное в название романа Е. Замятиным, "мы" покорителей будущего у Ю. Олеши в "Зависти", красноармейское "мы" в "Собачьем сердце" М. Булгакова, которое для этих писателей означает "они", рассмотренные со стороны критически настроенных "я".
Так же рассматривается "мы" и у Набокова. Только с тем принципиальным отличием, что его "я" не подвластно никаким искушениям, идущим от "мы", не испытывает к "мы" никакой зависти, как у Олеши, никакого желания найти с ним точки соприкосновения, как у героев "Белой гвардии" Булгакова. Набоков закрыл для своего "я" выходы не только в горизонтальную плоскость "мы", но и в вертикальную плоскость слияния с мировой душой в некое мистическое "мы".
"Таким образом, набоковское "я" (и плеяда его романных "двойников"), считает Вик. Ерофеев, - оказалось в полном одиночестве, предельной изоляции, и, удержав в сознании символическую идею не подлинности "здешнего" мира, условности его декораций, оно волей-неволей, не имея доступа в верхние этажи, должно было театрализовать этот мир декораций (в театрализации содержится момент преодоления и освобождения от неподлинного мира). Причем "другой" в мире Набокова ... также оказывается видимостью, призраком, наконец, вещью...
Стало быть, нетрудно предположить, что основное содержание набоковских романов - авантюры "я" в призрачном мире декораций и поиски этим "я" состояния стабильности ..."[10].
Набоков совершенно честен перед собой и читателем: он не придумывает той реальности, которую не понимает, пишет о том, что доступно его "земной природе", хотя такое положение его и не удовлетворяет.
Одиночество, чувство неукорененности человека в мироздании, принятие мира как иллюзию – главная идея набоковского героя, выражена в первых фразах его позднего романа "Другие берега": "Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь - только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями ...".
"Сколько раз, - пишет Набоков в том же романе, - я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни! Я готов был стать единоверцем последнего шамана, только бы не отказаться от внутреннего убеждения, что себя я не вижу в вечности лишь из-за земного времени, глухой стеной окружающего жизнь".
Набоков говорит, что писатель, не описывает "настоящую" жизнь, а представляет одну из многочисленных моделей, которые своим сходством с реальностью могут сбить с толку доверчивого читателя. Одной из попыток возвращения в потерянный рай стал для Набокова роман "Машенька", где конфликт опирается на контраст "исключительного" и "обыденного", "подлинного" и "неподлинного".
"Поздней весной 1989 года я был на могиле Набокова возле Монтре, небольшого курортного города на берегу Женевского озера, в деревушке Кларанс, - пишет Вик. Ерофеев. - ... Никогда не видел более эстетского надгробья. Роскошный голубой камень. Надпись по-французски: Vladimir Nabokov, ecrivain (писатель) и годы жизни. Ни креста, ни портрета ..." [13]. "Он оказался возможен только в силу особенности, чрезвычайно редкого вида его дарования - писателя, существующего вне среды, вне страны, вне остального мира ... Он будет идеально и страшно один" [14], - писал о Набокове его выдающийся современник Г. Газданов.
Набоков - безусловное явление, причем явление сразу двух литератур: русской и англоязычной, создатель особенного художественного мира, новатор-стилист. И влияние его стилистики, его гипнотизирующего, завораживающего дара легко обнаруживается в литературе современной, правда, по преимуществу там, где преобладают книжность, вторичная культура, тяга к элитарности.
Набоков - писатель-интеллектуал, превыше всего ставящий игру воображения, ума, фантазии. Вопросы, которые волнуют сегодня человечество - судьба интеллекта, одиночество и свобода, личность и тоталитарный строй, любовь и безнадежность - он преломляет в своем, особенном, ярко метафорическом слове. Стилистическая изощренность и виртуозность Набокова резко выделяет его в нашей традиционной литературе.
Список литературы Влияние эмиграции на творческий путь писателя на примере В. Набокова
- Назаров М. Миссия русской эмиграции. Ставрополь, 1992. С. 33-34.
- Цит. по: Варшавский В. Незамеченное поколение. М., 1992. С. 166.
- Цит. по: Мышалова Д. Очерки по литературе русского зарубежья. Новосибирск, 1995. С. 31.
- См.: Мышалова Д. Указ. соч. С. 73.
- См.: Дарк О. Загадка Сирина // Набоков В. Собр. соч.: В 4-х т. Т. 1. М., 1990. С. 404.
- См., напр.: Сахаров В.И. Набоков // Литература русского зарубежья. Вып. 2. С. 187-213
- См.: Ерофеев В. Русская проза Владимира Набокова // Набоков В. Собр. соч.: В 4-х т. Т. 1. С. 3-32; Ерофеев В. Русский метароман Владимира Набокова, или В поисках потерянного рая // Вопросы литературы, 1988. № 10. С. 125-160.
- Цит. по: Дарк О. Указ. соч. С. 40.
- Ерофеев Вик. Указ. соч. С. 12.
- Там же. С. 13
- Ерофеев Вик. Указ. соч. С. 14-15. Курсив автора - Е.П.
- Ерофеев Вик. Указ. соч. С.28.
- Там же. С. 5.
- Цит. по: Сахаров В.И. Указ. соч. С. 213.