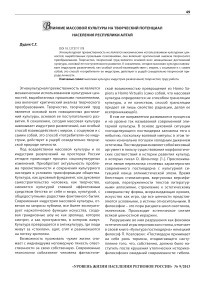Влияние массовой культуры на творческий потенциал населения Республики Алтай
Автор: Дудик С.Г.
Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal
Статья в выпуске: 9 (187), 2013 года.
Бесплатный доступ
Этнокультурная преемственность не является механическим использованием культурных ценностей, выработанных прошлыми поколениями, она включает критический анализа творческого преобразования. Творчество, творческий труд является основой всех новационных достижений культуры, основой ее поступательного развития. К сожалению, сегодня массовая культура навязывает индустрию развлечений, как особый способ взаимодействия с миром, с социумом и с самим собой, это способ «потребителя» ее индустрии, действует в ущерб созидательно творческой природе личности.
Массовая культура, индустрия развлечений, творчество, труд, работа
Короткий адрес: https://sciup.org/143182005
IDR: 143182005
Текст научной статьи Влияние массовой культуры на творческий потенциал населения Республики Алтай
Этнокультурная преемственность не является механическим использованием культурных ценностей, выработанных прошлыми поколениями, она включает критический анализа творческого преобразования. Творчество, творческий труд является основой всех новационных достижений культуры, основой ее поступательного развития. К сожалению, сегодня массовая культура навязывает индустрию развлечений, как особый способ взаимодействия с миром, с социумом и с самим собой, это способ «потребителя» ее индустрии, действует в ущерб созидательно творческой природе личности.
Под воздействием массовой культуры и ее индустрии развлечений на просторах России сегодня происходит процесс социокультурных изменений. Приобретает актуальность проблема преемственности и сохранения культурного наследия в условиях трансформации общества. Культура, как духовный фундамент, как духовное самостроительство человека, как творчество, сменяется культурой ставшей эффективным средством бегства от себя и мира, культурой, с общедоступными радостями фантомного бытия. Современная индустрия массовой культуры, отвечая на запросы публики, все более эксплуатирует наркотические функции искусства, создавая грандиозные шоу не как зрелище, которое смотрят, а как пространство, в котором живут. Культура превращается в антикультуру, где люди живут за «стеклом», едят, спят и размножаются на потеху зрителям.
Возможность проживать чужие жизни снимает с индивидуума непомерную тяжесть ответственности за свою собственную. Современные технологии соблазняют человека фантастиче- ской возможностью превращения из Homo Sapiens в Homo Virtualis (само собой, что массовая культура определяется не способом трансляции культуры, а ее качеством, способ трансляции придает ей лишь свойство радиации, делая ее всепроникающей).
В том же направлении развиваются процессы и на уровне так называемой современной элитарной культуры. В основе духовной ситуации господствующего постмодерна заложена тяга к небытию, поскольку волевой импульс в этом течении изначально погашен холодным дыханием эстетизма. Постмодернизм являет собой весомый аргумент в пользу существования морфологических соответствий в истории развития культур, о которых писал О. Шпенглер [1.]. Прослеживается явная перекличка стилевых характеристик современного постмодерна с культурной ситуацией конца эллинистической эпохи. Время блестящих стилизаторов, виртуозных версификаторов, перегруженности текстов литературными аллюзиями, стремление к эстетическому совершенству формы, всеразъедающая ирония, искусство как игра, где все ценности представляются условными, а истины относительными. В философии – это пора расцвета школ скептиков, эклектиков. Происходит эстетическое снятие всякой ценностной иерархии.
Разрушение во имя разрушения как феномен эстетической игры нероновского толка, отмечает в своей книге «Культура постмодерна» немецкий философ П. Козловски: «Постмодерн принимает на себя роль тормоза, отодвигающего наступление того, что, собственно, должно было наступить после крушения утопических историкофилософских ожиданий современности: гибели.
Предназначение человека – разрушить самого себя, но только прежде он должен стать достоин этого, пока же – еще нет. Эпоха постмодерна представляет собой время, которое остается людям, чтобы стать достойными гибели» [2, с. 34]. Постмодернизм пытается зафиксировать точку перехода бытия в небытие, как момент высшего эстетического напряжения. И в этой точке перехода постмодернистская стратегия раскрывается как манифестация небытия, как отчаянный флирт культуры с «Ничто».
В современной культуре отражается процесс разрушения традиционных норм и ценностей, и обрывается диалог, который Р. Нибур полагал основным смыслом и содержанием человеческой истории: диалог Я с самим собой, с окружающим миром и с Богом [3, с. 446]. Для современного социокультурного развития характерно наличие большого количества альтернативных возможностей духовного выбора, в которых личность зачастую дезориентируется, перестает отождествлять свои индивидуальные представления с коллективными, что приводит к ощущению разрыва между ними.
Дополняет проблемное поле идентификационного пространства распространение «западного фундамента идентичности» - индивидуалистских эгоистических духовных ориентиров, вненациональных ценностей либерализма, ведущих к расшатыванию духовно-нравственных устоев социума и способствующих широкому распространению негативных идей среди населения страны, особенно у неокрепшей в духовном отношении значительной части молодежи. Всё это напрямую затрагивает саму возможность (или невозможность) существования российской цивилизации и характер ее дальнейшего развития, ставит вопросы сохранения преемственности духовных ценностей и традиций, культурной самобытности общества, обеспечения нормальной жизнедеятельности страны в целом.
Смена мировоззрения, ценностных ориентиров, жизненных установок, не происходит «по плану», а, как правило, болезненно и противоречиво. «Распад старых форм жизни и появление новых ценностных мотивов, - подчеркивал В. Виндельбанд, - приводят в результате к возбужденному состоянию поиска и нащупыванию, к интенсивному брожению, которое требует своего выражения» [4, с. 83]. Стремительная динамика опережает возможность осмысления социальных духовных процессов. Важнейшая проблема сегодня - обеспечение оптимального сочетания достижений технологической цивилизации с фундаментальными (общечеловеческими) ценностями.
Мировому историческому (в том числе цивилизационному) процессу присущи две противоположные тенденции: к всеобщему контакту культур, с одной стороны, и к их этнокультурному сохранению, с другой. Преемственность и взаимовлияние культур - закономерное следствие поступательного движения общества по пути к развитию.
Культурное развитие человеческого общества во многом обеспечивается не только новационными достижениями, но и преемственностью различных культур, их взаимовлиянием. Каждое поколение людей, каждый народ (большой или малый) внесли и вносят в нее свой собственный вклад, по своему участвуют в движении истории.
Важную роль в процессе преемственности играют традиционные религии, именно им принадлежит миссия возвращать человечество к фундаментальным подлинно гуманистическим ценностям. Нельзя не согласиться с мнением, что «Диалог откровений - необходимая составная часть диалога культурных миров. Без него общение остается на уровне слов, на уровне интеллектуальных инструкций» [5, с. 453].
Опасность отчуждения общества от исторических корней имеет особое значение для такого специфического (в социокультурном плане) региона как Горный Алтай. Алтай со своей поликультурностью, многоязычием и поликон-фессиональностью представляет своеобразную лабораторию межкультурного влияния и преемственности. Здесь исторически представлены религиозные традиции: христианства, традиционных верований алтайцев, ислама, буддизма, славянского неоязычества. Поликультурность задана тем, что тут «сошлись» этнические субкультуры - алтайцев, русских казахов и других этносов.
В настоящее время республика Алтай представляет собой мозаичное социокультурное пространство. Деформация вековых норм бытия и нравственности с одной стороны, рост технократизма и накопительства, массовая мифо- логизация и фетишизация сознания, мистификация общественного прогресса и результатов его развития, возвеличение материальных достижений западной цивилизации с другой стороны, все эти факторы являются угрожающими для сохранения культурной преемственности и целостности. Насколько среди населения республики глубоко укоренилась западная «массовая культура», пропагандирующая потребительство и ориентированная на формирование унифицированных жизненных стратегий, ограничивающая творческий потенциал личности? Исследование данной гипотезы проверялись с помощью опроса (анкетирования).
В проводимом исследовании по теме «Детерминация национального самосознания социальных групп и качества жизни в условиях современного российского полиэтнического общества» в республике Алтай, в результате сбора первичной информации было опрошено 1174 респондентов, из них: женщин 704, что составило 61,0%; мужчин 451 (39,0% от общего числа опрошенных).
Было опрошено пять возрастных групп от 14 до 60 лет и старше. Наибольшее число опрошенных респондентов указали на принадлежность к русскому этносу - 601 (53,5%), представителей алтайского этноса - 254 (22,7%), казахов (19.5%), татар (0,1%), украинцев (0,1%), молдаван (0,1%), тувинцев (0,3%), метисов (0,2%), евреев (0,1%), 0,2% не указали этническую группу.
Результаты исследования по каждому району характеризуются уникальностью, имеют существенные демографические, внутренние политические, конфессиональные отличия.
Этнокультурная преемственность не является механическим использованием культурных ценностей, выработанных прошлыми поколениями, она с необходимостью включает момент критического анализа творческого преобразования. Творчество, творческий труд является основой всех новационных достижений культуры, основой ее поступательного развития. К сожалению, сегодня массовая культура через средства массовой информации агрессивно навязывает массам достаточно низкие, вульгарные, профанные и раздробленные образцы культуры в качестве стандарта. В результате подобной манипуляции возникает, по определению Ги Дебора, «общество спектакля», где вся жизнь современного общества – театрализованное представление. Он отмечает: «Реальность, рассматриваемая по частям, разворачиваемая по частям, разворачивается в своем обобщенном единстве в качестве особого псевдомира, подлежащего только созерцанию» [6, с 23].
В результате этого реальность заменяется псевдобытием (хэпенинг), из множества событий складывается псевдомир или гиперреальное. В работе «Postmodernism and Popular Cult u re» от мечается, что в реальности гиперреального реальное и воображаемое постоянно переходят друг в друга [7, с 148].
Для обозначения данного феномена Ж. Бо-дрийяр вводит понятие «симукляр» - мир видимости. По мнению ученого, «симукляры» часто переживаются как более реальные, чем сама реальность. В результате этого, считает J. Comb, возникает «фальшивая» культура. Эта культура искусственна, она лишена чувства места во времени, отношения к корням, традиции. Автор отмечает, что синтетическое творчество отделяет от естественных условий и объединяет с искусственным. В результате общая культура атрофируется, заменяясь миром эфемерных форм социальных хамелеонов. Это общество подобно маскараду, оно нестабильно, теряет традицию, глубину, человеческие ценности, смысл и значение [8, с 189].
Таким образом, массовая культура упраздняет традиционные стереотипы, образы, символы, мифы и замещает их новыми, активно рекламируя и навязывая индустрию развлечений, как особый способ взаимодействия с миром, с социумом и с самим собой, формирует «потребителя» ее индустрии, в ущерб созидательно творческой природе личности. Возведение на пьедестал банального в мире людей, потребляющих одинаковые продукты, одну и ту же информацию, слушающих одинаковую музыку, одинаково одевающихся – таковы последствия влияния массовой культуры, приведшие к обострению вопроса о личностном самоопределении человека.
Под воздействием массиндустрии, в какой степени остается востребованным творчество и в трудовой деятельности, и в проведении досугового времени на сегодня в республики Алтай, в рамках проведенного исследования, отражено в следующих вопросах.
На вопрос « В Вашей профессиональной деятельности присутствует новизна в результате труда, т.е. элементы творчества?», «да» ответили 29,7% респондентов, «отчасти» - 26,5%, ответ «нет» - 31,5%, только треть респондентов (29,7%) отметили творческое отношение к своему труду. Выявленный в опросе результат можно рассматривать как своеобразный прогноз перспективы развития региона практически по всем направлениям, поскольку от отношения к профессиональной деятельности зависит ее конечный результат. Хотя в основе своей любой труд, если это не конвейер и не механическое воспроизводство, в своей основе содержит элементы творчества.
Из пяти опрошенных возрастных групп , наиболее творческими определились три:- это 34,1% (14 – 18 летние), 30,6% (25 – 35 лет) и 29,8% (36 – 59 летние), практически только по трети из групп. Проанализируем полученный результат по выделившимся возрастным категориям, в невысокой процентной характеристике. Можно предположить, что подростковой группе, характерно приобретение собственных навыков и опыта практически во всех начинаниях и поэтому они «по своему» творчески реализуются в новом опыте. Две другие группы, наиболее вовлеченные в трудовую деятельность, имеют возможность активного участия в профессиональной реализации. Тем не менее, выходит, довольно низкий процент жителей региона творчески относящихся к своей профессиональной деятельности.
По сфере занятости свой труд определили, как творческий:
- крестьяне 56,0%,
- учителя 50,0%,
- служащие бюджетной сферы 39,1%,
- муниципальные служащие 34,3%,
- предприниматели 32,2%.
Наименее творческим был определен труд рабочих – 16,9% из числа опрошенных этой сферы занятости.
Анализируя ответы на вопрос «Ваша деятельность на рабочем месте влияет на конечный результат продукции Вашего предприятия?», где «да» отвечает 41,0% и «скорее да, чем нет» - 22,5%, если учесть логическую близость ответов, то выходит, что 63,5% респондентов осознают ответственность за качество создаваемого ими продукта труда. Данный контрольный вопрос, подразумевает возможность (необходимость) творческих задач и решений в трудовом процессе.
Анализ ответов по вопросу « Ваша удовлетворенность жизнью зависит от элементов творчества присутствующих в Вашей профессиональной деятельности или от занятий по интересу (хобби) ?», указывает: во первых на распространенное влияние массовой индустрии развлечений – 24,1% отвечают «мне достаточно тех услуг и развлечений, которые я могу получить от СМИ (кино, телевидение, Интернет и т.д.)», во вторых на низкий уровень доходов среди населения республики - 24,0% респондентов выбирают ответ «главным для меня является размер оплаты труда», 25,9% отвечают «нет», в целом - 74-м %-м респондентов не до творчества! Только 21,8% респондентов отвечают положительно, 2,8% дали развернутые ответы демонстрирующие потребность в творчестве: «Да, хобби/занятие по интересу», "Да, чем интереснее работа, тем легче работать", "Да. Я не могу без росписи", "Да. Футбол"… Четверть из опрошенных - 24,6% (21,8% и 2,8%) своими ответами продемонстрировали активное, критичное отношение к жизни, с профессиональнотворческой и по личным интересам досуговой самореализацией.
В анкетном опросе, было проведено исследование сравнительного анализа двух распространенных понятий «труд» и «работа». В результате выявлено следующее:
- 70% респондентов определили эти понятия, как синонимы,
- 20,8% - как имеющие разный смысл,
- 6,7% ответов содержат интересную, но подчас противоречивую характеристику, например, "труд, когда бесплатно вкалываешь, а работа -заработок получаешь", "труд на себя, а работа на кого-то", "труд - от слова трудиться, а работа - раб", "труд - удовольствие, работа - принуждение". Анализируя полученные ответы, можно сделать вывод, что среди общественного мнения, нет четких разграничений среди рассмотренных понятий и при обыденном речевом их использовании, наиболее частым, является синомичное сочетание их по смыслу и по содержанию.
Рассматривая влияние западной массовой культуры на сознание россиян, Ю.Г. Волков при- водит высказывание известного русского режиссера и кинокритика В. Мережко: «Уже два поколения выросло на американском кино… Но нельзя жить чужими героями и чужими идеями…» [9, с. 81]. Катастрофичность ситуации заключается в масштабах распространения данной продукции. Как отмечает А.Р. Тузиков, «в прокате России – 90% голливудских картин» [10, с. 132]. Правомерно предположить, что в таком же процентном отношении проамериканские ценности и национально-государственные ценности в России. Г.И. Давыдова в работе «Информационнопсихологическая безопасность русской молодежи: проблемы и рефлексия» заключает: «Государство практически отстранилось от защиты прав и законных интересов детей и молодежи на информационную безопасность» [11, с. 192].
Данная проблема ведет к утрате национальной духовной культуры. Еще в начале ХХ в. И.А. Ильин отмечал, что национальное обезличивание есть великая беда и опасность в жизни человека и народа. С ним необходимо бороться настойчиво и вдохновенно. И вести эту борьбу необходимо с детства. Он полагал, что необходимо «…чтобы все прекрасные предметы, впервые пробуждающие дух ребенка… были национальными, у нас в России – национально русские… чтобы дети молились и думали русскими словами; чтобы они почуяли в себе кровь и дух своих предков и приняли бы с любовью и волею – всю историю, судьбу, путь и призвание своего народа» [12, с. 201].
В сложившейся ситуации Россия как исторически самостоятельное, уникальное национальногосударственное образование стоит перед угрозой потери самобытности в результате подобного культурного импорта. В работе А.Е. Чекалова отмечается, что поток культурных заимствований западной цивилизации вымывает такие черты, как патриотизм, сострадание, взаимовыручку [13, с. 32]. Эти проблемы нашли отражение в исследованиях С.И. Григорьева, где общим является противопоставление западных либеральных ценностей духовности России, «…здесь имеет приоритет эмоционально-нравственного, духовного над рациональным, прагматическим. Это в принципиальном плане всегда отличало социокультурное развитие славянских народов, остроту и противоречивость их жизнеосущест- вления, борьбу за Правду, Справедливость, Духовность, Веру» [14, с. 118].
Как отмечает В.А. Ядов, базисная социальная функция идентификации отражает включение в систему социальных взаимосвязей, стремление индивида слиться с общностями и группами, которые обеспечат защиту их жизненных интересов, основных потребностей в самосохранении, развитии и самовыражении в условиях мнимой опасности ущемления базисных потребностей другими группами, общностями [15].
Очевидна необходимость сохранения культурного наследия, всего духовного богатства России, хранимого не только и не столько в материально-опредмеченных артефактах, сколько в сфере сознания, ментальном своеобразии культуры. Исследуя концептуальные ценности наиболее приемлемые для России, позволяющие преодолевать кризисы современной цивилизации, Е.В. Литягин приходит к выводу: «Необходимость не только сохранения, но и активного использования национальной культуры в процессе современного общественного развития, соединение традиционных ценностей культуры с технологической динамикой – одно из проявлений современного общества «постмодерна», выступает как мировая тенденция» [16, с. 108].
В полиэтническом пространстве республики, следует обратить внимание на необходимость средствами культуры объединять население, через организацию совместных межкультурных мероприятий. Результаты исследования подтверждают необходимость формирования общей ценностной системы, опирающейся на национально-культурные традиции народов России, универсальную и способную решить возникающие противоречия между этносоциальными и конфессиональными культурами. Создание общего в рамках государства ценностно-смыслового ядра задаст надэтнический и надрелигиозный тип самоидентификации, где главной должна стать гражданская принадлежность и соответствующие ей ценности.
Возвращаясь к теме исследования, можно сделать вывод, что воздействие массовой культуры губительно сказывается на характере проведения досуга среди населения республики, где в большей степени преобладает пассивный отдых и отдается предпочтение массовой индустрии развлечений. Это влияние способно ограничи- вать преемственность культурных традиций, поскольку их трансляция подразумевает активную творческую вовлеченность разных поколений в этот процесс, где, так или иначе, присутствует новизна в их восприятии и воспроизведении в новых условиях бытия.
И еще более проблемный характер отражен в отношении к профессиональному труду, где невысокого уровня достигает его степень творчества. Выявленный в опросе результат можно рассматривать как не внушающий оптимизма прогноз перспективы развития региона практически по всем направлениям, поскольку от отношения к профессиональной деятельности зависит ее конечный результат. Творческий подход и воображение крайне необходимы во всех сферах жизни, касается ли это взаимоотношений с людьми, в семье, успешного ведения дел, новых подходов в воспитании детей, бизнеса, организации труда или общества. Добившиеся успеха люди живут с уверенностью, основанной на их творческих способностях, умении непрерывно придумывать что-то новое и проводить это в жизнь, бросая вызов всем и всему, преодолевая различного рода кризисы и катаклизмы.
*****
-
1. Шпенглер О. Закат Европы. – Т.1. - М.: Мысль, 1993.
-
2. Козловски П. Культура постмодерна. - М.: Республика, 1997.
-
3. Нибур Р. Опыт интерпретации христианской этики // Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура. - М.: Юрист, 1996.
-
4. Виндельбанд В. Философия немецкой духовной жизни ХIХ столетия. – М., 1993.
-
5. Померанц Г. Диалог культурных миров. Лики культуры: Альманах. Том первый. - М.: Юрист, 1995.
-
6. Ги Дебор. Общество спектакля / пер. с франц. С. Офетраса и М.Я. Якубович. – М.: ЛОТОС (Радек), 2000.
-
7. Storey John/ Postmodernism and Popular Culture // The Icon Critical Dictionary of Postmodern Thought/ -Cambridge, 1998. - P. 147-157.
-
8. Comb J. Phony culture: confidence and malaise in Contemporary America. – Bowling Green, 1994.
-
9. Волков Ю.Г. В поисках новой идеологической парадигмы // Социально-гуманитарные знания. – 2003. - № 2. – С. 80-100.
-
10. Тузиков А.Р. Масс-медиа: идеология видимая и невидимая // Полис. – 2002. - № 5. – С. 123-133.
-
11. Давыдова Г.И. Информационно-психологическая безопасность русской молодежи: проблемы и рефлексия // Русская молодежь. Демографическая ситуация. Миграции. – М., 2004.
-
12. Ильин И.А. Собрание сочинений. Т.1. – М.: Русская книга, 1996.
-
13. Чекалов А.Е. Проблема социокультурных заимствований в России // Известия вузов Северо-Кавказ. Региона, Общественные науки. – Ростов на Д. – 2001. - № 1. – С. 32-35.
-
14. Григорьев С.И. Виталистская социология: парадигма настоящего и будущего (избранные статьи по неклассической социологии). – Барнаул: Изд-во АРНЦ СО РАО, 2001.
-
15. Социальная идентификация личности / под ред. В.А. Ядова. – М.: Изд-во Института социологии РАН, 1993.
-
16. Литягин Е.В. Идеология в современном мире. – Горно-Алтайск: РИО Горно-Алтайского госуниверситета, 2007.
Список литературы Влияние массовой культуры на творческий потенциал населения Республики Алтай
- Шпенглер О. Закат Европы. -Т.1. -М.: Мысль, 1993.
- Козловски П. Культура постмодерна. -М.: Республика, 1997. EDN: TJCUSB
- Нибур Р. Опыт интерпретации христианской этики//Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура. -М.: Юрист, 1996.
- Виндельбанд В. Философия немецкой духовной жизни ХIХ столетия. -М., 1993.
- Померанц Г. Диалог культурных миров. Лики культуры: Альманах. Том первый. -М.: Юрист, 1995.