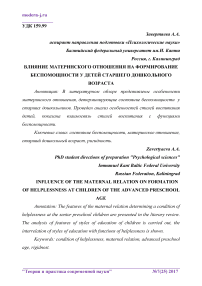Влияние материнского отношения на формирование беспомощности у детей старшего дошкольного возраста
Автор: Завертяева А.А.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Образование и педагогика
Статья в выпуске: 7 (25), 2017 года.
Бесплатный доступ
В литературном обзоре представлены особенности материнского отношения, детерминирующие состояние беспомощности у старших дошкольников. Проведен анализ особенностей стилей воспитания детей, показана взаимосвязь стилей воспитания с функциями беспомощности.
Состояние беспомощности, материнское отношение, старший дошкольный возраст, ригидность
Короткий адрес: https://sciup.org/140272058
IDR: 140272058
Текст научной статьи Влияние материнского отношения на формирование беспомощности у детей старшего дошкольного возраста
Многие исследователи, в рамках изучения выученной беспомощности, указывают на важность родительского отношения и стилей семейного воспитания как основных предпосылок формирования данного состояния. В связи с ЗПР, в поведении матери может наблюдаться неадекватное понимание явлений болезни и здоровья, а также стереотипизация и фиксация на определенном типе материнского отношения (фиксированные формы родительского поведения — Г.В. Залевский, 2007), что может привести к формированию беспомощности [9].
Современные психологи, описывая материнское отношение, употребляют различные термины и понятия, основывающиеся на теоретических позициях автора. Однако во всех определениях можно увидеть общую составляющую: с одной стороны – любовь к ребенку, радость, удовольствие от общения с ним, принятие ребенка, стремление его защитить и обезопасить; и с другой стороны – требовательность и контроль. Обе эти характеристики обуславливаются определенными родительскими установками или родительской позицией [4; 7; 10; 11; 16].
В зависимости от особенностей материнского отношения, одни пытаются сами вылечить ребенка, вторые – постоянно исправляют назначения врача, а третьи водят ребенка от одного специалиста к другому.
Задержка психического развития начинает отчетливо проявляться к четырем годам, однако предпосылки к возникновению данного нарушения можно увидеть еще в раннем возрасте – в частности, обратив внимание на специфическое речевое развитие ребенка. Выявление проблемы способствует изменению психологического климата в семье и изменению стиля взаимоотношений – возникают проблемы в отношении с матерью, происходит вытеснение отца из психологической семейной жизни, следовательно, нарушается нормальное формирование личности ребенка. Изменить материнское отношение или устранить его негативное влияние становиться достаточно трудно. Стремление матери сделать своего ребенка идеальным и предотвратить болезнь зачастую формируют социальную тревожность (ощущение чуждости и несоответствия требованиям социума, боязнь негативной оценки окружающих) [13].
В своих исследованиях Д.А. Циринг [17; 18] в качестве основного средового фактора формирования личностной беспомощности определяет семью и нарушение взаимоотношений в семье. Дисгармоничные стили воспитания, по исследованиям ученого, формируют личностную беспомощность, выполняющую различные функции и обеспечивающую достижение более целостных отношений индивида со средой. Проведя эмпирическое исследование, Циринг доказала, что при доминирующей гиперпротекции личностная беспомощность у ребенка выполняет манипулятивную функцию, тогда как при повышенной моральной ответственности и жестокости родителей – адаптивную, в свою очередь защитную функцию личностной беспомощности активизирует противоречивый стиль воспитания.
Рассмотрим особенности данных стилей воспитания и их взаимосвязь с функциями личностной беспомощности.
Стиль доминирующей гиперпротекции характеризуется в постоянном стремлении родителей к максимальному и некритическому удовлетворению любых потребностей ребенка. При данном стиле воспитания ребенок лишается возможности проявлять инициативу, автономность и активность, родители лишают ребенка самостоятельности. Таким образом, постоянное поощрение несамостоятельности ребенка со стороны родителей является условием для формирования личностной беспомощности. Данный стиль поведения закрепляется и в дальнейшем в ситуациях, где требуется самостоятельность, ребенок будет демонстрировать манипулятивную функцию личностной беспомощности для поддержания привычной жизнедеятельности субъекта [6; 12; 18]. Данная функция будет реализована за счет привлечения внимания окружающих и получения поддержки за счет изменения поведения. Ребенок в состоянии плаксивости, тревожности и замкнутости будет показывать окружающим изменение привычного поведения, что будет расцениваться как угроза их благополучию, следовательно, окружающие будут реагировать в выгодном для ребенка направлении. Данный вид манипуляции будет позволять ребенку достигать определенных целей для обеспечения привычной жизнедеятельности без лишнего напряжения и дискомфорта.
Стиль воспитания, где основным является повышенная моральная ответственность и жестокость родителей, вызывает адаптивную функцию беспомощности. В данной ситуации ребенок подвергается серьезным испытаниям, которые требуют максимального восстановления адаптации. По данным Е.И. Цымбал и Т.Я. Сафоновой [21] к последствиям жестокого обращения, вызванные действиями родителей, относятся нарушения эмоционального, психологического, социального и когнитивного функционирования ребенка. В процессе жизни у ребенка формируются защитные механизмы – навыки, помогающие справиться с происходящим. Личностная беспомощность в данном случае проявляется в качестве быстрого уменьшения напряжения при помощи убеждения личности в неспособности повлиять на ситуацию, отмечается снижение мотивации, уменьшаются попытки активного вмешательства в ситуацию для изменения положения [19]. Данные качества позволяют сформировать условную психологическую безопасность, приводя к устранению психологического дискомфорта, а не к решению ситуации.
Защитная функция личностной беспомощности формируется в процессе противоречивого стиля воспитания [19]. Невозможно отследить закономерности в действиях и последствиях за эти действия, а также разницу в последствиях за одинаковое действие, влечет за собой угрозу психической стабильности ребенка. Ребенок постоянно получает опыт неконтролируемости событий, что влечет отсутствие попыток к изменению реальности. Благодаря данному защитному механизму, в дальнейшем ребенок учится сохранять стабильность самооценки и психологический комфорт, а также целостность личности и образа Я. Таким образом, Д.А. Циринг показывает основные функции личностной беспомощности, сформированные в процессе дисгармоничного воспитания.
К периоду старшего дошкольного возраста формируется отношение к качественной стороне окружающей действительности и происходит выбор оптимально поведенческого паттерна поведения, также к этому возрасту у ребенка происходит определение стиля восприятия окружающего мира, то есть формируется пессимистический или оптимистический атрибутивный стиль [14; 15]. По мнению М. Селигмана, атрибутивный стиль ребенка взаимосвязан с восприятием моделей поведения родителей, а именно матери, так как они являются единственными значимыми фигурами наблюдаемыми ребенком в течение всего детства.
Однако основатель теории отмечает, что данный стиль не только закрепляется в качестве модели поведения, но и укрепляется и изменяется в детском сознании благодаря воздействию таких методов, как критика со стороны родителей, педагогов и других взрослых фигур. Зарожденные предпосылки выученной беспомощности благодаря пессимистическому атрибутивному стилю, начинают укрепляться под воздействием стресса, неправильного воспитания, низкого уровня собственного здоровья [14; 15]. Частый и систематический негативный опыт формируют пессимизм, который характеризуется генерализацией. Постоянство негативного опыта и закрепление форм семейного поведения формируют симптомы беспомощности, которые начинают распространять на все сферы деятельности ребенка, а потом влияют на успешность самореализации взрослого человека.
Проявлением состояния беспомощности являются и фиксированные формы поведения (в частности, формирование негативных тенденций в эмоционально – волевом развитии) [9]. Предиспозиционным свойством, детерминирующим проявление фиксированных форм поведения является, по мнению Г.В.Залевского, психическая ригидность, как привязанность к ставшему неадекватным способу действия и восприятия или как относительную неспособность изменить действие или отношение при принципиальной возможности и объективной необходимости их изменения. У детей с признаками беспомощности наблюдается высокая ригидность: затрудненность/невозможность изменить программу деятельности в соответствии с требованиями ситуации [9, с. 267 - 280].
В момент постановки диагноза ребенку матери попадают в новую и незнакомую для них ситуацию, которая зачастую является неожиданной и травмирующей. Нормальный и обычный стиль материнского воспитания начинает изменяться и переходить в дисгармоничный. Остро поднимается вопрос семейной закрытости – матери начинают уходить от социальных контактов, закрываться в своей семье. Изменение стиля материнского отношения к ребенку после постановки диагноза выражается в фиксированности на дисгармоничном стиле.
Волкова О.В. определяет три этапа формирования выученной беспомощности у детей, заложенных семейным стилем воспитания [5].
На этапе раннего детства взрослый начинает оценивать действия ребенка из вне: инициирует действие и оценивает его, часто эта оценка негативная, с недооценкой усилий, которые приложил ребенок к выполнению данного действия.
Следующий этап характеризуется убеждением ребенка в объективности внешнего отрицательного воздействия, при попытках самостоятельно инициировать деятельность и получив результат, не соответствующий ожиданиям взрослого. В результате ребенок прекращает пытаться добиться результата, который бы соответствовал идеальному.
На последнем этапе происходит формирование внутреннего ощущения выученной беспомощности – ребенок начинает ограниченно воздействовать в отношении собственных действий, намерений, воли, мотивов, мыслей, эмоций.
В исследованиях Д.А. Циринг и Е.В. Забелиной [8; 20] выявлены существенные различия между стилями воспитания беспомощных детей и самостоятельных детей. Родители беспомощных детей в большей степени проявляют неустойчивость в стиле воспитания, а матери беспомощных детей склонны к потворствованию, максимальному и некритичному удовлетворению любых потребностей ребенка. Матери склонны проявлять гиперопеку, а также к чрезмерным требованиям и запретам, доминированию.
Данные ученые выявили тесную взаимосвязь между выученной беспомощностью и волевым развитием личности ребенка, проявляющаяся в безынициативности, нерешительности, в низком уровне организованности, настойчивости, целеустремленности, а также тесная взаимосвязь выученной беспомощности с соматическим статусом ребенка [8; 20].
Важную роль в формировании негативных тенденций в эмоционально – волевом развитии личности ребенка с ЗПР играют стереотипизированные формы семейного поведения. Фиксация членов семьи на определенном неэффективном стиле воспитания и типе родительского отношения к ребенку, неадекватное понимание имеющейся специфики в развитии ребенка, приводят к формированию выученной беспомощности [1; 5; 19].
С дальнейшим развитием и ростом ребенка с ЗПР, поведение матери не претерпевает существенных изменений – она не увеличивает дистанцию между собой и ребенком, не меняет восприятие ребенка, применяет привычные, нефлексибильные приемы и методы воспитания, продолжает инфантилизировать ребенка, ограничивает самостоятельность, понижает требования и продолжает принимать решения за ребенка. Таким поведением мать начинает снижать уровень мотивации к достижению положительного результата деятельности. Привыкнув к такому обращению, ребенок с ЗПР на этапе школьного обучения не справляется без матери с предлагаемыми ему трудностями и вновь уходит в состояние болезни [3; 7; 11; 16].
Опираясь на систему взаимозависимостей и динамики взаимодействия матери с ребенком, которые находятся в тесной связи с конкретной жизненной ситуацией, можно предположить, что отношение матери к детям претерпевает постоянное изменение под влиянием тех или иных доминирующих факторов.
Список литературы Влияние материнского отношения на формирование беспомощности у детей старшего дошкольного возраста
- Авдеева Н.Н. Роль матери и отца в развитии ребенка в раннем детстве // Дошкольное воспитание, 2005. - № 3. - с. 101 - 106.
- Батурин Н.А. Психология успеха и неудачи: учебное пособие. - Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 1999. - 100 с.
- Варга А.Я. Роль родительского отношения в стабилизации детской невротической реакции // Вестник МГУ. Серия «Психология», 1985. - № 4. - С. 32 -37.
- Волкова О.В. Компоненты и механизмы формирования выученной беспомощности у детей с ослабленным здоровьем: отногенетический подход// Сибирское медицинское обозрение. - 2014. - № 4. - с. 86 - 91.
- Волкова О.В. Интегративный подход к изучению выученной беспомощности детей // Сибирский психологический журнал, 2014. - № 54. - с. 129 - 145.
- Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. - М.: ЧеРо, Изд-во МГУ, 1997. - 344 с.
- Дружинин В.Н. Психология семьи. - М.: «КСП», 1996. - 160 с.
- Забелина Е.В. Коммуникативная активность и беспомощность подростков: результаты формирующего эксперимента // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. - 2008. - № 5. - С. 186 - 189.
- Залевский Г.В. Личность и фиксированные формы поведения. - М.: Институт психологии РАН, 2007. - 336 с.
- Зимин П.П. Воля и ее воспитание у подростков - Ташкент, 1985. - 47 c.
- Иванов В.И. Смысл болезни в контексте семейных взаимоотношений // Вестник МГУ. - 1993. - № 1. - С. 31 - 38.
- Каракулова О.В. Личностная обусловленность склонности к манипулированию окружающими людьми в юношеском возрасте / дис. канд. психол. наук. - Томск, 2008.
- Сагалакова О.А., Труевцев Д.В. Когнитивно - поведенческие паттерны отношения родителей к ребенку как фактор социальной тревожности и выученной беспомощности в младшем школьном возрасте // Вектор науки ТГУ, 2011. - № 3(6). - с. 282 - 286.
- Селигман М. Е. П. В поисках счастья. Как получать удовольствие от жизни каждый день. - Изд. 2-е. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. - 320 с.
- Селигман М. Е. П. Новая позитивная психология: Научный взгляд на счастье и смысл жизни. - М.: София, 2006. - 368 с.
- Столин В.В. Семья как объект психологической диагностики // Семья и формирование личности. - М.: МГУ, 1981. - С. 26 - 38.
- Циринг Д.А. (2006). Личностная беспомощность у детей: структурные компоненты и их взаимосвязи. // Теоретико-методологические и психологические основы коррекционно-развивающей работы психологов: Материалы международной научно-практической конференции. В 3-х ч. Ч.1. - Шадринск: Изд-во ШГПИ. - С.5-11.
- Циринг Д.А., Пономарева И.В., Честюнина Ю.В., Евстафеева Е.А., Эвнина К.Ю. Особенности семейных взаимоотношений, детерминирующие формирование личностной беспомощности у подростков // Сибирский психологический журнал, 2016. - № 59. - С. 22 - 33.
- Циринг Д.А., Пономарева И.В. Психологические функции личностной беспомощности // Вестник Томского государственного университета, 2012. - № 357. - с. 173 - 175.
- Циринг Д.А. Психология выученной беспомощности: учебное пособие. - М.: Академия, 2005. - 120 с.
- Цымбал Е.И., Сафонова Т.Я. Жестокое обращение с детьми. Помощь детям, пострадавшим от жестокого обращения и их родителям / под ред. Е.И. Цымбал, Т.Я. Сафоновой. - М.: ОЗОН, 2001. - 121 с.