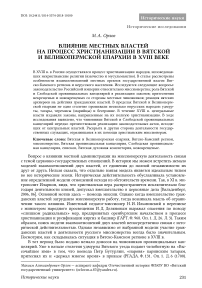Влияние местных властей на процесс христианизации в Вятской и Великопермской епархии в XVIII веке
Автор: Орлов Максим Александрович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 4 (81), 2018 года.
Бесплатный доступ
В XVIII в. в России осуществлялся процесс христианизации народов, исповедовавших нехристианские религии (язычество и мусульманство). В статье рассмотрены особенности взаимоотношений местных органов государственной власти Вятско-Камского региона и нерусского населения. Исследуются следующие вопросы: законодательство Российской империи относительно миссионерства; роль Вятской и Слободской провинциальных канцелярий в реализации законов; притеснения некрещеных и новокрещеных со стороны местных чиновников; реакция вятских архиереев на действия гражданских властей. В пределах Вятской и Великопермской епархии не одно столетие проживали несколько нерусских народов: удмурты, татары, черемисы (марийцы) и бесермяне. В течение XVIII в. центральные власти издавали законы, направленные на их полную христианизацию. В ходе исследования выявлено, что чиновники Вятской и Слободской провинциальных канцелярий нередко препятствовали реализации законодательных актов, исходящих от центральных властей. Раскрыта и другая сторона деятельности государственных служащих, отразившаяся в их помощи христианским миссионерам
Вятская и великопермская епархия, вятско-камский регион, миссионерство, вятская провинциальная канцелярия, слободская провинциаль- ная канцелярия, епископ, вятская духовная консистория, новокрещеные
Короткий адрес: https://sciup.org/140246606
IDR: 140246606 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10100
Текст научной статьи Влияние местных властей на процесс христианизации в Вятской и Великопермской епархии в XVIII веке
Вопрос о влиянии местной администрации на миссионерскую деятельность связан с темой церковно-государственных отношений. В истории мы можем встретить немало моделей взаимоотношений двух властей, от единения до полной независимости их друг от друга. Нельзя сказать, что отдельно взятая модель является идеальным типом во все исторические эпохи. Историческая действительность обуславливала установление определенной модели отношений исходя из обстоятельств времени. Так, в XI в. митрополит Иларион, видя, что христианская вера распространяется исключительно благодаря деятельности князей, допускал вмешательство в церковные дела [Вальденберг, 2006, 86]. Основной мотив здесь — помощь миссии. Однако когда вмешательство гражданских властей затрудняло миссионерскую работу, тогда возникала мысль об ограничении такого влияния. Известный педагог-миссионер Н. И. Ильминский в переписке с министром народного просвещения И. Д. Деляновым выражал опасения по поводу «слишком радикальных» мер, предпринятых оренбургским начальством в процессе христианизации и русификации киргиз и башкир (ГАРТ. Ф. 968. Оп. 1. Д. 26. Л. 3). Таким образом, поиск модели взаимоотношений двух властей непосредственно связан с исторической действительностью. Однако независимо от выбранной модели участие гражданских властей в деятельности русского миссионерства всегда было значительным. Посмотрим, как складывалась ситуация в Вятско-Камском регионе в XVIII в.
В тот период было подано немало доносов на чиновников провинциальных канцелярий. Уже в начале столетия удмурты Вятского уезда подают челобитную на «Высочайшее имя» в том, что воевода Петр Бутурлин, «наровя» каринским татарам, притеснял их и «держал многое время» в приказе (РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. Д. 6 (1700).
Л. 2–2 об.). Подобными жалобами «богат» архив Слободской воеводской канцелярии. В 1724 г. удмурты просят каринского татарина Кузьму Касимова быть их представителем в деле об «обидах и взятках с них отяков» от комиссара Филиппа Коробова (РГАДА. Ф. 573. Оп. 1. Д. 208. Л. 2). В 1736 г. к удмуртам приезжал служитель Вятской провинциальной канцелярии Тимофей Падерных «неведомо по какому указу», сыскивал с них рекрут, «стягал» и взял деньги (РГАДА. Ф. 573. Оп. 1. Д. 184. Л. 1).
Какое же отношение эти дела имеют к делу христианской миссии? Известный историк миссионерства среди удмуртов П. Н. Луппов писал: «все они (служилый класс. — М. О. ) большею частью исповедовали христианскую религию; таким образом, они обладали средствами производить большое влияние на инородцев и, в частности, располагать их к христианской религии; к сожалению, они пользовались этими средствами не только не в пользу, но, напротив, в ущерб христианству» [Луппов, 1899, 87–88]. К моменту массовой христианизации народов Поволжья и, в частности, Вятско-Камского региона русское чиновничество успело вооружить против себя местное нехристианское население, что не могло благоприятно отразиться на процессе миссионерской работы. Для нерусского населения духовная и гражданская власти в то время олицетворяли единое начало, ассоциировались одна с другой, поэтому появление православного миссионера воспринималась инородцами как очередная попытка администрации вмешаться в их местные дела.
Середина столетия стала временем бурной миссионерской работы. В конце правления императрицы Анны Иоанновны, 11 сентября 1740 г., был издан указ, смысл которого сводился к идее полной христианизации народов Поволжья — как язычников, так и мусульман. Его реализация приходится на время императрицы Елизаветы Петровны. Сразу наметился разрыв в понимании способов обращения в христианство. Центральные власти призывали «поступать в том по образу апостольской проповеди, со всяким смирением и кротостию» (ПСЗРИ-1, XI, № 8236). Местные власти в лице провинциальных канцелярий по-своему понимали положения законов, исходя зачастую из личных своекорыстных мотивов.
Особенно печально запомнилась Слободская провинциальная канцелярия. В ее ведении находилась большая часть нерусского населения Вятской и Великопермской епархии. Здесь проживали, помимо русских, еще и татары, удмурты, черемисы и бе-сермяне. Уже в 1740 г. вятский епископ Вениамин (Сахновский) пишет в Св. Синод о том, что служители Слободской канцелярии в угоду местным татарам притесняют новокрещеных, берут взятки, скотину, забирают в канцелярию и держат там «нагло» [Луппов, 1899, 265–268]. По этому случаю был составлен специальный реестр притеснений, в котором указывались преступления в отношении новокрещеных. Так, сотник Зянык Асанов и десятник Сила Алешин приезжали в д. Еловскую к новокрещеному Луке Демидову, били жену его плетью и «вымучили» денег; солдат Федор Лебезников в д. Ляминской пытался силой взять «женку и детей ее» и привести ко Крещению; в Каринскую волость по просьбе татарина Алача Бизюкова были присланы служилые Слободской канцелярии, били «отяков» и взяли с них денег. Всего в реестре 21 подобное доношение, причем во многих указывается, что в Слободскую канцелярию запросы по этому вопросу посланы, однако ответов по ним не было (ГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 127. Л. 7–14 об.). Преемник еп. Вениамина епископ Варлаам (Скамницкий) не раз обращался в Св. Синод по тому же вопросу, с просьбой перевести новокрещеных в ведение Вятской канцелярии. Особо отмечалось сотрудничество чиновников Слободской канцелярии с местными татарами (ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 1. Л. 168, 229). Стоит указать на то, что татарское население для гражданских властей занимало более привилегированное положение среди остального нерусского населения. Это объясняется тем, что татары в пределах Вятско-Камского региона длительное время, по словам историка А. А. Спицына, «держали все прикамские области не только в политическом, но также и культурном подчинении» (Спицын, 1888, 63).
Несмотря на попытки вятских епископов защитить новокрещеных, Слободская канцелярия продолжала притеснять их. В 1746 г. во многие селения, где проживали новокрещеные, приезжали служители Слободской канцелярии. Особенно запомнились местному населению рассыльщик Федор Жуков и писчик Афанасий Пупышев, которые приезжали в удмуртские селения для взыскания рекрутов. По словам выборных, Жуков говорил им: «…вас отяков велено крестить всех неволею» (ГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 83. Л. 4 об.–6). Со многих удмуртов были взяты деньги, иных держали в неволе, вынуждая принять Крещение. Разбирательство по этому делу дошло до Сената. В итоге Жуков, Пупышев и другие служители Слободской канцелярии были определены к наказанию в Вятской провинциальной канцелярии с предписанием: «нещадно наказать плетьми» и возвратить взятые деньги (ГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 126. Л. 4 об.–7). Таким образом, можно утверждать, что для верховной власти идея насилия в процессе христианизации была недопустима, и если такое происходило, то только по произволу отдельных лиц.
После этого случая количество доношений на Слободскую канцелярию заметно сокращается. Епископ Варлаам в 1748 г. в своем доношении в Св. Синод уже не видел необходимости переводить новокрещеных из ведения Слободской канцелярии «понеже во оных светских командах может быть есть какая уже по перемене командиров отмена» (ГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 127. Л. 3). Сложно сказать, насколько реальное положение дел соответствовало материалам, которые мы имеем в судебных постановлениях Вятской духовной консистории. По удачному замечанию П. Н. Луп-пова, многие дела производились «под покровом глубокой канцелярской тайны», знать о таких делах было весьма трудно, да и сами новокрещеные «хорошо знали или чувствовали, что за свои жалобы могут подвергнуться еще большим притеснениям со стороны служилых людей» [Луппов, 1899, 187].
Слободская канцелярия была не единственным местом, от которого миссионерское дело приходило в затруднение. В 1743 и 1744 г. в Сенат обращаются архим. Димитрий (Сеченов), поставленный главой миссии в Поволжье, и советник Борис Ярцов, назначенный защищать новокрещеных. Архим. Димитрий писал в Сенат и Св. Синод на губернаторов и глав провинциальных канцелярий, что они вопреки высочайшему указу не дают новокрещеным льготы от налогов, напротив, с них же взыскивают (ПСЗРИ-1, XI, № 8792). Справедливость слов архимандрита подтверждала ситуация, сложившаяся на Вятке. В 1746 г. с новокрещеных Косинской первой доли (Слободской уезд) были взысканы приехавшим к ним рассыльщиком деньги, которые полагалось взять с некрещеных (ГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 108. Л. 1 об.). Епископ Вениамин вел долгую переписку с Вятской провинциальной канцелярией о необходимости предоставить новокрещеным льготу на основании указа от 1 сентября 1720 г. Канцелярия отписывалась регламентом Камер-коллегии, по которому запрещалось изменять условия налогообложения. П. Н. Луппов верно отметил, что такая позиция Вятской канцелярии «была совершенно не основательна», т. к. регламент Камер-коллегии запрещал самовольно , т. е. без разрешения высшей власти, слагать и налагать подати [Луппов, 1899, 124–125]. Освобождение новокрещеных от налогов предписывалось императорским указом (ПСЗРИ-1, VI, № 3637). Подобная ситуация складывалась и в соседней Казанской епархии, между прочим, в тех местностях, которые позже перейдут в состав Вятской и Великопермской епархии: Уржумском, Яранском и Царево-санчурском уездах. В 1721 г. Казанский митрополит Тихон доносил высшим властям на то, что служащий Свияжской канцелярии Иван Телепнев не дает льготу новокрещеным черемисам, ссылаясь на отсутствие повеления Камер-коллегии, в сущности, повторяя тот же мотив (Описание, 1868, I, Прил. XXVII).
Советник Ярцов, объехав немало верст по обширным пределам Казанской и Нижегородской губерний и хорошо ознакомившись с ситуацией на местах, представил Сенату доклад, в котором также жаловался на гражданских служащих. Новокрещеным, как указывается в доношении, «чинятся от всякого чина людей великия обиды», а именно: держат их у себя в работе, берут крепостные записи, держат в тюрьмах, берут подводы, кормы, съестные припасы. Если некрещеные приносят ложные жалобы, то провинциальные канцелярии от обид не защищают и его, советника, не слушают (ПСЗРИ-1, XII, № 8929). Справедливость слов Ярцова подтверждает случай, возникший в среде новокрещеных черемис Пижанской волости. В 1746 г. в Яранске семейный клан Голенищевых за взятый у них новокрещеными заем держал некоторых из них у себя в доме 13 лет по записи и после тех урочных еще 7 лет без платы за работу (ГАРТ. Ф. 10. Оп. 2. Д. 1274. Л. 151).
Назначенный для защиты новокрещеных Вятской провинции Степан Марданов часто доносил об обидах со стороны чиновных людей. В 1750 г. он посылал в местные присутственные места доношения на драгуна Ивана Показанева, который в новокрещенских жилищах «чинил многия обиды взятки и грабителства» (ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 1. Л. 335 об. –336). Позднее Марданов пишет о капрале Вятской провинциальной канцелярии Иване Булдакове, который, приехав к новокрещеным, бил их, насильно взял с них деньги и ткани (ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 1. Л. 375 об. — 376). Недовольны были новокрещеные и известным секретарем Аверкием Перминовым, который взял с них деньги на имя купца Александра Прозорова, не желая в дальнейшем выполнять свои обязательства по договору ((ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 1. Л. 431–431 об.). Все эти примеры свидетельствуют о том, что обвинения, воздвигнутые Ярцовым на чиновников Поволжья, вполне соответствовали и Вятско-Камскому региону.
Вмешательства местных чиновников в дело миссии можно было наблюдать и в далекой Сибири. Иркутский епископ Иннокентий (Нерунович) писал в Сенат, что от Иркутской провинциальной канцелярии не дается льгота новокрещеным. Более того, канцелярия, не желая ссориться с местной инородческой знатью, не разбирала дела о преступлениях в отношении новокрещеных сибиряков [Санников, 2016, 121–128].
Вышеописанные примеры не исчерпывают всего объема отношений, возникавших между русскими чиновниками и нерусским населением. В истории миссионерства можно найти достаточно примеров, иллюстрирующих помощь, оказанную представителями светской власти духовенству в процессе христианизации нерусских народов. Упомянутый уже советник Ярцов указывал, что в его команде имеется дворянин Андрей Завацкий, который «в бытность свою при порученном деле, со все-усердным и ревностным рачением в правлении своем находился, и чрез разговоры увещанием своим привел иноверцов и чуваш в православную христанскую веру немалое число» (ПСЗРИ–1, XIII, № 9671). Особо отмечалось, что Завацкий знал чувашский язык.
На Вятке также есть примеры участия чиновников в добровольном привлечении нехристианского населения к православной вере. Еще при архиепископе Алексии в 1722 г. капитан Астраханского полка Иван Сухомин приводил в Вятский духовный приказ «отина» Дмитрия Бизюкова для Крещения, который и был просвещен с именем Матфей (ГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 14. Л. 5–8). В 1758 г. хлыновский регистратор Михаил Трапицын просил об оглашении жительствующих у них четырех крепостных калмыков (ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 4. Л. 288 об.–289). У хлыновского статского советника Гринкова имелся крещеный калмык, который был одним из лучших его служителей. Этот крещеный калмык проходил в 1761 г. по делу о ложном сказывании «слова и дела государева». В силу указа от 25 июня 1742 г. помещики могли отказаться от «ложносказателей», однако жена Гринкова пожелала оставить новокрещеного у себя (РГАДА. Ф. 425. Оп. 3. Д. 219. Л. 17). Можно предполагать о наличии добрых отношений между данным помещиком и его крепостным калмыком.
Архив Вятской духовной консистории хранит интересную историю о новокрещеном из башкир Афанасии Гончарове. Во время «бывшей башкирской шатости» подпоручик Андрей Попов взял его к себе в дом еще малолетнего и воспитал при себе. По смерти Попова Афанасия на свое пропитание взял канцелярист Вятской духовной консистории Алексей Головков и «по его желанию и оженил на дворовой девке». Однако тот новокрещеный башкир «сошел с ума». Головков, тем не менее, взялся нести нелегкий крест содержания душевнобольного новокрещеного (ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 3. Л. 271 об.–272).
Таким образом, влияние местных властей на процесс христианизации в изучаемый период носило двоякий характер. С одной стороны, чиновники, являвшиеся частью государственного аппарата, заявлявшего себя как христианский, должны были помогать миссионерской деятельности православного духовенства. Однако гражданские власти не всегда создавали благоприятные условия для реализации законов, направленных на христианизацию народов Поволжья, и здесь имелись свои причины.
Во-первых, отсутствие единой позиции законодателя по вопросу о налогообложении приводило к различному толкованию правовых норм в процессе их реализации. Местная администрация должна была обеспечивать бесперебойное поступление налогов в императорскую казну, расходы которой в первой трети XVIII в. резко возросли. Вместе с тем число новокрещеных к середине века резко возросло, а это значило сокращение налоговых поступлений в связи с дарованными льготами. Местная администрация, обязанная обеспечить бюджет налоговыми поступлениями, прибегала зачастую к нарушению одних законов (о налоговых льготах) с целью надлежащего исполнения других (обязанности обеспечить сбор налогов). Вторая причина связана с различным подходом русского гражданского начальства к нерусскому населению Вятско-Камского региона. Как следует из документов, вятские архиереи пытались вывести новокрещеных из ведения Слободской канцелярии в связи с тем, что ее чиновники вместе с татарами притесняли удмуртов. Схожая ситуация сложилась среди чувашского населения. Местные власти, по словам Н. В. Никольского, «мало заботились об интересах христианства» и вопреки царским указам позволяли татарам строить мечети [Никольский, 1912, 57]. Таким образом, положение татар оказалось более привилегированным, в ущерб другим народам, а это отражалось и на миссионерской деятельности.
С другой стороны, индивидуальными усилиями отдельные чиновники помогали как миссионерской деятельности среди некрещеных, так и утверждению новокрещеных в истинах христианства. В итоге к концу XVIII в. сложилась ситуация, когда основная масса чиновничества была не склонна помогать миссионерскому делу, а зачастую и вовсе препятствовала проведению государственной политики в этой области. Главной причиной этого, как нам представляется, оказалось отсутствие единого законодательства и согласованной государственной политики в процессе христианизации нерусского населения.
Список литературы Влияние местных властей на процесс христианизации в Вятской и Великопермской епархии в XVIII веке
- Государственный архив Кировской области. Ф. 237. Оп. 1. Д. 1, 3, 4, 7; Оп. 74.Д. 14, 83, 108, 126, 127.
- Государственный архив Республики Татарстан. Ф. 10. Оп. 2. Д. 1274; Ф. 968.Оп. 1. Д. 26.
- Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. Т. I. СПб., 1868.
- Полное Собрание Законов Российской империи. Вып. 1. Т. XI. СПб., 1830;Т. XII. СПб., 1830; Т. XIII. СПб., 1830.
- Российский государственный архив древних актов. Ф. 131. Оп. 1. Д. 6 (1700);Ф. 573. Оп. 1. Д. 184, 208; Ф. 425. Оп. 3. Д. 219.
- Вальденберг В. Е. Древнерусские учения о пределах царской власти. Очерки русской политической литературы от Владимира Святого до конца XVII века. М., 2006. 368 с.
- Луппов П. Н. Христианство у вотяков со времени первых исторических известий до XIX века. СПб., 1899. 333 с.
- Никольский Н. В. Христианство среди чуваш среднего Поволжья в XVI-XVIII веках. Казань, 1912. 416 с.
- Санников А. П. Миссионерская деятельность первых иркутских епископов // Известия ИГУ. 2016. Т. 16. С. 121-128.
- Спицын А. А. Местное и областное управление на Вятке до XVIIIвека. К истории вятских инородцев. Вятка, 1888. 66 с