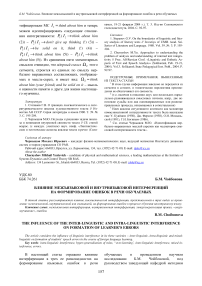Влияние межъязыковой и внутриязыковой интерференций на формирование ошибок в речи обучаемых
Автор: Чойбонова Бэла Матвеевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Статья в выпуске: 11, 2009 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается влияние лингвистической интерференции, представленной в трех видах ее проявления: межъязыковой, внутриязыковой или смешанной, на формирование ошибок в процессе обучения иностранному языку.
Межъязыковая интерференция, внутриязыковая интерференция, гипергенерализация правил, "сверхзаучивание", ошибки
Короткий адрес: https://sciup.org/148178540
IDR: 148178540 | УДК: .80
Текст научной статьи Влияние межъязыковой и внутриязыковой интерференций на формирование ошибок в речи обучаемых
В настоящей статье отражено влияние интерференции в трех ее разновидностях на формирование языковых ошибок в речи обучаемых в проведенном научном исследовании Б.М. Чойбоновой, под руководством заведующей кафедрой методики преподавания иностранных языков и русского как иностранного Центра интенсивного обучения иностранным языкам МГУ им. М.В. Ломоносова, д-ра пед. наук, профессора Г.А. Китайгородской и в соавторстве с научным руководителем, канд. психол. наук, доцентом вышеназванной кафедры О.В. Самаровой, по проблеме ошибок взрослого контингента учащихся при интенсивном курсе обучения английскому языку по Методу активизации.
Одной из основных причин (кроме «слабого» навыка (термин З.М. Цветковой»)) возникновения ошибок автор исследования считает наличие трех видов интерференций: межъязыковой, внутриязыковой и смешанной.
В лингвистике проблемой интерференции начали заниматься во второй половине XIX в., изучая те явления в языках, которые появлялись в них в результате контактов с другими языками и обозначались термином «смешение языков». Л.В. Щерба предложил ввести вместо него термин «взаимное влияние языков». Впоследствии получил распространение термин «интерференция», заимствованный из психологии. У. Вайнрайх считает интерференцию неотъемлемым сопутствующим обстоятельством многоязычия, т.к. необходимость «…следовать огромному количеству норм в соответствующих контекстах является проблемой и в случае неудачи вызывает один и тот же результат: «вторжение» (интерференцию) норм одной системы в пределы другой» [1, 9]. Лингвистический подход открывает путь для прогнозирования возможных случаев интерференции на основе анализа «потенциальных полей интерференции» (термин С.А. Абдигалиева) контактирующих языков и предварительного учета тех факторов или условий, которые способствуют появлению интерферирующего влияния родного языка. У. Вайнрайх вводит понятие доминирующего языка: это тот язык, которым носитель на данном отрезке своей жизни лучше владеет или к которому чаще прибегает (при равной степени владения) [1, 35]. Интерференция осуществляется со стороны доминирующего языка в направлении того, которым человек владеет в меньшей степени. На основании анализа большого корпуса данных выявлено, что все сходное, но не тождественное, представляет очень большую трудность для последующего усвоения. При этом чем меньше различий у объектов, тем больше вероятность их уподобления. Ошибки, вызванные интерференцией, представляют собой наиболее трудно преодолимые препятствия для учащегося, который, по образному выражению Л.В. Щербы, находится “в плену родного языка”. Считая основным источником затруднений при изучении иностранного языка различия в строе родного и изучаемого языков, он отмечает: «…можно изгнать родной язык из процесса обучения и тем самым обеднить процесс, не давая иностранному языку никакого оружия для самозащиты против влияния родного, но изгнать родной язык из голов учащихся невозможно» [2, 56]. Родной язык учащегося служит “наиболее действующей помехой, заставляя его воспринимать и воспроизводить иностранную речь по правилам (программе) родного языка» [3, 230], и как бы прочно ни были закреплены в памяти выражения иностранного языка, родной язык всегда будет оказывать более сильное влияние.
По мнению исследователей ошибок И.И. Меркуловой, С.Е. Оганесян, Л.И. Шаверневой, явления межъязыковой интерференции наиболее отчетливо проявляются именно на первоначальной стадии обучения. Учащиеся, не различая дифференциальных признаков иностранного языка, механически переносят на него привычные нормы родного языка, используют известные им операции в новой ситуации и продолжают мыслить категориями родного языка, облекая их в иноязычную материальную форму.
Позиция родного языка и его интерферирующее влияние на иностранный язык связаны также с противоположными путями их усвоения. Л.С. Выготский отмечал, что ребенок усваивает родной язык неосознанно и ненамеренно, а иностранный – начиная с осознания и намеренности «…Можно сказать, что развитие родного языка идет снизу вверх, в то время как развитие иностранного языка идет сверху вниз» [4, 265 ]. Своим первым языком учащийся овладевает, не подвергаясь интерферирующему влиянию какого-либо другого языка, т.е. в условиях одноязычия, а «обучение иностранному языку уже самим фактом своего существования образует условие двуязычия, в которых интерферирующее влияние родного языка неизбежно» [2, 45 ]. В.А. Бухбиндер и Г.А. Китайгородская привлекают внимание к неразработанности механизма внутренней речи на иностранном языке, что делает его уязвимым для интерференции [5].
Интерференция может распространяться на все аспекты языка – фонетику, лексику, грамматику. Примером в области фонетики может служить оглушение звонких согласных в английских словах русскими обучающимися.
«Грамматическая интерференция возникает тогда, когда правила расстановки, согласования, выбора или обязательного изменения грамматических единиц, входящие в систему языка, применяются к примерно таким же цепочкам элементов языка С, что ведет к нарушению норм языка С, либо тогда, когда правила, обязательные с точки зрения грамматики языка С, не срабатывают ввиду их отсутствия в грамматике языка S» [1, 18 ].
Рассматривая проблему грамматической интерференции, В.Ю. Розенцвейг и Л.М. Уман обращают внимание на то, что при контакте двух языков, в частности, при изучении иностранного языка, в мышлении говорящего происходит процесс замены системы грамматических дифференциальных признаков изучаемого языка другой, отличающейся от нее системой, построенной под воздействием системы грамматических дифференциальных признаков родного языка [6]. При этом возможны три типа интерференции: а) при отсутствии различительного признака в родном языке различительный признак в иностранном языке стирается; б) при наличии различительного признака в родном языке и отсутствии такого признака в иностранном языке привносится различительный признак родного языка; в) при наличии однородного различительного признака в родном и иностранном языках и при разной дистрибуции членов оппозиции в иностранном языке различительный признак перемещается. Во всех трех случаях создается третья система дифференциальных признаков, имеющая черты родного языка.
Основополагающим условием для лексической интерференции У.Вайнрайх считает ощущение лексического «дефицита» (lexical “gap”), когда говорящий не находит точных эквивалентов в языке С для выражения значения некоего слова в языке S и использует то слово, которое кажется ему наиболее подходящим. Незнание специфики различия сходных явлений может привести к ошибочному выбору [1, 25 ].
В исследовании И.П. Павловой отмечается, что на уровне лексики интерференция проявляется в семантических и структурных расхождениях; семантические различия выражаются в несовпадении объема значений, в разных способах выражения одного понятия, различных границах употребления слова и особенностях сочетаемости; структурные расхождения выражаются в несовпадении количества единиц при выражении понятия
(слово эквивалентно словосочетанию) и в несовпадении способов связи между словами (предложного и падежного управления) [7, 25 ]. По мнению исследователя, семантическая структура многозначных слов в двух языках никогда не совпадает и слова воспринимаются как корреляты, если совпадает их центральное значение. Интерференция лексики родного языка при усвоении лексики иностранного языка проявляется в переносе отношений, свойственных лексико-семантической системе родного языка, на систему изучаемого иностранного языка.
А.Л. Карлин и вслед за ней С.А. Абдигалиев определяют факторы, способствующие появлению интерферирующего влияния родного языка, важнейшие среди которых – передифференциация и реинтерпретация различий [8; 9]. Передифференциация проявляется в том, что объем значений слова родного языка шире объема значений соответствующего слова изучаемого языка, и обучаемый под влиянием родного языка употребляет слово изучаемого языка в таких значениях, которых оно в действительности не имеет. При реинтерпретации обучающиеся отождествляют значения слов родного и иностранного языка на основе их похожего звучания. Это особенно ярко проявляется в «ложных друзьях переводчика», однако иногда приводит и к словотворчеству – порождению не существующих в изучаемом языке лексических единиц.
С.Г. Тер-Минасова отмечает яркое проявление интерференции в сфере коллокаций. «Перенесение типовой лексической сочетаемости слов родного языка на иностранный представляет собой одно из наиболее трудно преодолимых препятствий для учащегося и чревато образованием неприемлемых для иностранного языка словосочетаний» [10, 99 ]. И.П. Павлова выделяет три объекта интерференции: а) интерференцию форм, б) интерференцию значений и в) интерференцию употреблений [9, 390 ]. Все эти направления обнаруживают себя как в лексике, так и в грамматике, и важны для создания типологий и классификаций ошибок.
Т. Слама-Казаку, представитель направления «анализа ошибок» (error analysis), считает, что процесс овладения неким языком должен исследоваться применительно к особенностям как данного конкретного языка, так и родного языка обучающихся, т.к. зоны интерференции в каждом конкретном случае будут разными [11]. Преподаватель может бороться с интерференцией, лишь хорошо зная форму родного языка учащихся, учитывая, в каких случаях отмежеваться от родного языка, а когда опираться на него.
Межъязыковая интерференция, возникающая вследствие противодействия более устойчивых навыков владения родным языком на базе взаимодействия двух языковых систем, не является единственным видом интерференции. После какого-то периода усвоения иностранного языка и накопления некоторого запаса иноязычных знаний, умений и навыков могут иметь место нарушения правил пользования иностранным языком вследствие другого типа интерференции. Эти ошибки часто квалифицируются исследователями как ошибки внутриязыковой или смешанной интер ференции, когда речь идет о взаимодействии навыков внутри самого изучаемого иностранного языка (А.А. Алхазишвили, Г.М. Бурденюк, Л.В. Волкова, И.С. Казимирова, А.Л. Карлин, Н.И. Кириченко, Т.Н. Киселева, И.И. Китросская, И.П. Павлова, С. Кордер и Ф.С. Френч). В основе внутриязыковой интерференции лежит тот факт, что новые, впервые формирующиеся навыки пользования материалом и механизмами иностранного языка стихийно сопоставляются в сознании говорящего и деформируются под влиянием ранее сформированных навыков, что ведет к разрушению навыка, искажению норм речи и появлению соответствующих ошибок, или ранее усвоенная форма изучаемого языка отрицательно влияет на усвоение формы, поданной после нее.
Явление внутриязыковой интерференции У. Немзер интерпретирует следующим образом: “…Можно ожидать, что, овладев английской продуктивной именной и глагольной парадигмой, учащийся начнет употреблять такие формы, как bringed и mouses; при другом порядке подачи материала могут, напротив, возникнуть формы типа tooken или brung. В обоих случаях это интерференция внутренняя, не зависящая от языка – источника» [12, 129 ].
Рассматривая проблему внутриязыковой интерференции, представляется важным привести мнение С. Кордера, согласно которому ошибки внутриязыковой интерференции следует скорее оценивать положительно, а именно: как «отражение творческих усилий» учащегося, направленных на поиски грамматической структуры языка-цели, поскольку эти усилия обнаруживают внутреннюю языковую компетентность учащегося, способность к овладению языком, и задача преподавателя состоит именно в том, что он должен учитывать их в своей методике [13, 5].
Внутриязыковая интерференция часто возникает в тех случаях, когда у говорящего нет четкой дифференциации сходных значений, и тогда они используются взаимозаменяемо. Как показано Г.М. Бурденюк, при изучении интерференции на материале английских предлогов у студентов возникают ложные аналогии с изученными ранее английскими сочетаниями как результат стремления к унификации. Усвоив, что аналогия с образцами родного языка является ошибочной, студент стремится найти аналогию с уже изученным в иностранном языке и в результате может образовать сочетание, которого нет ни в родном, ни в иностранном. Ложные ассоциации могут быть звуковыми, понятийными, семантическими, ситуативными и т.д. [14]. И.П. Павлова подчеркивает, что лексическая интерференция внутри иностранного языка действует при наличии в языке семантических и стилистических различий между близкими по смыслу словами (синонимами) [7].
Известная предсказуемость явлений интерференции позволяет учитывать и прогнозировать появление вызванных ими ошибок и соответственно организовывать процесс обучения. Однако есть явления интерференции, которые до сих пор недостаточно изучены. В данном случае имеется в виду интерферирующее влияние первого иностранного языка при изучении второго иностранного языка или межъязыковая интерференция со стороны первого иностранного языка . Исследователи отмечают, что данный вид интерференции обнаруживается иногда в большей степени, чем интерференция родного языка (Н.В. Баграмова, Н.Г. Еганян, Н.Д. Ивицкая, Т.Н. Киселева, И.И. Китросская, Б.А. Лапидус, Э.Н. Мелкумян). Это объяснимо с точки зрения психологии, что подсознание постоянно напоминает обучающемуся, что он говорит на иностранном языке, отодвигая интерференцию родного на более задний план и более поздний этап обучения.
Влияние первого иностранного языка проявляется почти во всех случаях продуктивного употребления изучаемого языка (при пересказе, свободном разговоре, переводе с русского на второй иностранный язык), что дает возможность именовать его в терминологии Э.П. Шубина «активной интерференцией» (негативное влияние, ведущее к появлению ошибок) или «активной транспозицией» (позитивное влияние, перенос правил и норм первого языка на пользование вторым при их полной идентичности) [15]. Интерференцию, корни которой лежат в системе иностранного языка, изучавшегося первым, Ф. Маулер предлагает называть «вторичной интерференцией» [16, 147].
Исследуя источники появления «ненормативных языковых фактов» в иноязычной речи обучающихся, Т. Слама-Казаку показала, что преобладающее влияние родного языка (межъязыковая интерференция) в проведенном ею обширном исследовании «отвечало» за 52% ошибок и проявлялось в большей степени на начальном этапе обучения. Внутриязыковая интерференция, обусловленная особенностями языка – цели, «отвечала» за 44% ошибок, проявлялась наиболее интенсивно на среднем этапе обучения и выражалась в гипергенерализации правил (сверхобобщение в стремлении к регулярности), неверном выборе формы из одного семантического поля, гиперкоррекции и т.д. [11].
В противовес методистам, которые полагают, что ошибки – это всегда и однозначно плохо и что идеальные условия обучения позволят их избежать, представители направления «error analysis» считают ошибки доказательством процесса усвоения языка. С.П. Кордер называет ошибки сигналами, которые помогают обнаружить индивидуальнотипическую стратегию усвоения системы нового языка. Аналогично процессу усвоения языка ребенком, от которого никто не ожидает с самого начала правильной речи, обучающийся посредством ошибок проверяет свои гипотезы относительно языка-цели, утверждается в правильности одних и отбрасывает другие как непригодные. Таким образом, ошибки следует рассматривать не как «признаки торможения» (signs of inhibition), а как “показатель стратегий научения” (evidence of strategies of learning) [13].
Отмечается, что данные индивидуальные стратегии приводят к созданию у учащихся промежуточных аппроксимативных систем (approximative systems) (W. Nemser), или промежуточного языка (interlanguage) (U. Selinker), в котором сильно влияние родного или доминирующего языка, но который развивается в направлении языка-цели. Существование подобной промежуточной системы упрощенной и содержащей отклонения от нормы, совершенно естественно для учащегося и отражает наличный уровень компетенции (transitional competence) на каждой стадии обучения. По утверждению С. Кордера, “мы сможем создать благоприятные условия для изучения языка, если мы будем больше знать о том способе, посредством которого учится обучающийся, и какова его внутренняя программа обучения” [13, 27].
Сходный взгляд на ошибки высказывается Г.А. Китайгородской: учеником «воссоздается очень диффузная система признаков чужого языка, в которой зачастую больше пробелов, нежели признаков» [17, 152 ]. Г.А. Китайгородская отмечает, что эти пробелы постепенно ликвидируются, но эта работа влечет за собой два сорта ошибок. Если признаки чужого языка далеки от родного, это поисковые ошибки; если признаки чужого языка близки к родному – ошибки интерференции. «И те и другие ошибки – признак становления личной стратегии овладения языком» [17, 152 ]. У. Вайнрайх отмечает, что тенденция к интерференции может преодолеваться как автоматически – обильными упражнениями или практикой реального общения, приводящей к закреплению навыков пользования принятыми языковыми нормами, так и сознательными усилиями – осознанием трудностей и стремлением выйти на безошибочные высказывания [1, 13 ].
Таким образом, ошибки дают возможность преподавателю получить регулярную обратную связь о протекании этого процесса в учебной группе.