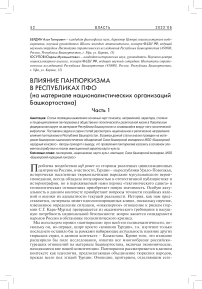Влияние пантюркизма в республиках ПФО (на материале националистических организаций Башкортостана). Часть 1
Автор: Бердин Азат Тагирович, Юсупов Юлдаш Мухамматович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 6, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена выявлению основных черт генезиса, направлений, характера, степени и тенденций влияния пантюркизма в общественно-политической и религиозной жизни в Поволжском федеральном округе на материале Республики Башкортостан и сложившейся вокруг него политической мифологии. Поставлена задача в серии статей рассмотреть национальное и религиозное направления влияния пантюркизма в Республике Башкортостан. В рамках данной статьи анализ проведен на материале башкирских националистических объединений Союз башкирской молодежи и МОО «Башкирский народный конгресс». Авторы приходят к выводу, что проявления пантюркизма касались в основном элементов атрибутики и носили имитационный характер карго-культа.
Пантюркизм, национализм, карго-культ, имитация, союз башкирской молодежи, моо
Короткий адрес: https://sciup.org/170195971
IDR: 170195971 | DOI: 10.31171/vlast.v30i6.9341
Текст научной статьи Влияние пантюркизма в республиках ПФО (на материале националистических организаций Башкортостана). Часть 1
П роблема воздействия soft power со стороны различных цивилизационных центров на Россию, в частности, Турции – на республики Урало-Поволжья, исторически населенные тюркоязычными народами мусульманского вероисповедания, всегда обладала популярностью в отечественной публицистике и историографии, но в переживаемый нами период «тектонического сдвига» в геополитических отношениях приобретает новую значимость. Особую актуальность в данном контексте приобретают вопросы точности подобных явлений и оценки их адекватности текущей реальности. История, как нам представляется, исчерпала лимит идеологизированных клише, поскольку научное, взвешенное определение ситуации, «инженерное» отношение к рискам (термин С.Г. Кара-Мурзы) превращается из академического требования в насущную потребность национальной безопасности: вопрос касается солидарности народов России в обстановке геополитического кризиса.
Мы используем термин «пантюркизм» при всей его полисемантичности, поскольку он, во-первых, шире просто «влияния Турции», т.к. изучение только последнего оставило бы за рамками набирающее актуальность влияние других тюркских стран, в данном контексте – Казахстана. Кроме того, это излишне расширило бы поле исследования, охватив все многообразие российско-турецких отношений на материале Башкортостана, включая экономические, находящиеся вне нашей компетенции. Пантюркизм рассматривается в данном контексте как идеология, предполагающая объединение тюркских народов, прежде всего под эгидой Турции. Очевидно, критерием, отделяющим есте- ственное сотрудничество близких по каким-либо культурным показателям, в данном случае тюркоязычных, народов от политической идеологемы является та или иная степень идейного противоречия национальному суверенитету государства, в данном случае – России.
Объектом исследования в настоящей статье являются националистические организации Республики Башкортостан. Предметом исследования избрано влияние идеологии пантюркизма и сложившаяся вокруг него политическая мифология. Целью является выявление основных черт генезиса, направлений, характера, степени и тенденций влияния пантюркизма в общественнополитической жизни Поволжского федерального округа (ПФО) на материале Республики Башкортостан. С этих позиций мы поставили задачу в серии статей рассмотреть национальное и религиозное направления влияния пантюркизма в Республике Башкортостан. В частности, в рамках данной статьи проводится анализ на материале таких башкирских националистических объединений, как Союз башкирской молодежи и МОО «Башкирский народный конгресс».
Проблематика пантюркизма имеет обширную отечественную и зарубежную историографию. Однако в контексте пантюркизма применительно к Республике Башкортостан число специальных работ ограниченно. Методологические вопросы применения soft power на территории России, а также, что особенно интересно в свете нашей темы, потенциала «мягкой силы» самой России проанализированы, в частности, в работах Е.Г. Пономаревой, история и современное состояние пантюркизма – работах В.А. Надеина-Раевского [Пономарева 2016; Надеин-Раевский 2018: 94]. Темой «мягкой силы» Турции на территории России на материале Башкортостана занимались В.А. Аватков и А.Ш. Бадранов [Аватков, Бадранов 2013]. Данные авторы также рассматривали проблему, схожую с темой данного текста, на материале Татарстана [Аватков, Бадранов 2014]. Ряд аспектов, важных для данного исследования, затронут в научных работах по национальным молодежным общественно-политическим организациям Башкортостана, включая монографию А.Ф. Каюмовой, основанную на ее диссертационном исследовании, работах М.А. Шайхетдинова, Т.Г. Мухтарова (социолог башкирской городской среды, один из идеологов БПД «Кук буре» и создатель группы «Туган тел»), М.М. Кульшарипова, Р.Р. Газизова, Л.Н. Фенина, Н.Я. Бибакова, З. Шакурова [Каюмова 2013; Шайхетдинов 2012; Мухтаров 2004; Кульшарипов, Газизов 2011; Фенин, Бибаков 1999; Шакуров 2005], а также сборник материалов под редакцией Ю.Н. Дорожкина [Молодежь Республики Башкортостан… 2005] и третий том «Этнополитической мозаики Башкортостана» под редакцией М.Н. Губогло1. Помимо научной литературы, источниками послужили публицистические тексты, затрагивавшие тематику пантюркизма в РБ. Отдельный интерес представляет собой обширное публицистическое наследие, пожалуй, наиболее известного диссидента и радикального идеолога башкирского национализма Айрата Дильмухаметова2. Информативны в данном контексте сайты и телеграмм-каналы исследуемых националистических групп1. Комплекс полуструктурированных интервью у знаковых деятелей национальных и религиозных организаций был собран авторами данной работы при реализации исследовательских проектов «Мусульманские джамааты в контексте этнополитических процессов в национальных республиках (на примере Республики Башкортостан и Кабардино-Балкарской Республики)» (РФФИ, 2018 г.), «Школа молодого этнополитолога» (Фонд президентских грантов, 2019– 2022 гг.) и других проектов (2008–2022 гг.) [Цибенко 2019; Бердин, Юсупов 2020].
Объективно для любых процессов интеграции или дезинтеграции тюрок России Башкортостан исторически обладает ключевым значением. Соответственно, была сформирована развитая политическая мифология по данной тематике, включая сюжеты пантюркизма, начиная со времен А.-З. Валиди в советский период [Кульшарипов, Газизов 2011]. В постсоветский период на фоне драматической экспансии политизированной этнично-сти пантюркизм стал распространенным клише, нередко применявшимся в отношении башкирских национальных и националистических организаций, а иногда и собственно республиканского руководства в одном ассоциативном ряду с национализмом и экстремизмом2. Причем это могло весьма слабо коррелировать с настоящей идеологией и практикой акторов, маркированных таким образом в СМИ и массовых стереотипах. Следует понимать истоки алармизма и тревожности в общественном сознании по отношению к пантюркизму.
Изначально он был значительно переоценен. В постсоветский период, на фоне распада СССР из-за слабости центральной власти предполагалась широкая идейная экспансия пантюркизма. Но на практике даже в странах Средней Азии и Казахстана, не говоря уже о субъектах РФ – Башкортостане и Татарстане, его реальное продвижение оказалось намного ниже ожидаемого [Надеин-Раевский 2018: 148-150]. Однако именно эти ожидания формировали в средах национальных активистов запрос, причем даже не на собственно пантюркизм, который не имел под собой в отечественных условиях социальной почвы, а на его имитацию, вполне в логике «этнополитического шантажа». Другим последствием этих ожиданий оказалось то, что СМИ, до сих пор исходя из этих ожиданий, эксплуатируют ими же создаваемые «черные мифы» вокруг пантюркизма. Во многом именно благодаря такой популяризации пантюркизм, как и иные достаточно экзотичные для местных условий идеологии, оказался в моде вплоть до правления В.В. Путина. Это произошло, однако, не столько в силу собственной привлекательности пантюркизма и не исходя из реальных потребностей населения, сколько по причине отсутствия альтернатив в условиях тотальной дискредитации отечественных традиционных ценностей.
Соответственно, при полной свободе поощрявшихся в тот период на всех уровнях связей с Западом и Турцией воздействие пантюркизма, по аналогии с модой, ограничилось в основном атрибутами, применяемыми местными наци- оналистами фрагментарно, исходя исключительно из собственных представлений и интересов, весьма далеких от идеалов построения «геопроекта Туран». Характерен в этом плане кейс А.-З. Валиди. В постсоветском Башкортостане устоялась за 30 лет традиция гражданского почитания профессора Ахмет-Заки Валиди (Заки Валиди Тогана). Его именем названы Национальная библиотека РБ, одна из центральных улиц Уфы, а также в Ишимбае и Ташкенте, парки в Анкаре и Стамбуле, установлены памятники в Уфе, Сибае, Стамбуле и Санкт-Петербурге1. Научное и политическое наследие Валиди действительно весьма велико и всемирно признано. Это одна из немногих фигур башкирской истории, известных и авторитетных почти во всем тюркском мире. И действительно, в Уфе и за рубежом проводились научно-практические Валидовские чтения, желанным гостем в Башкортостане были дети Валиди – турецкие ученые Субедей и Исянбике Тоган. Бесспорно, Валиди Тоган являлся одним из знаковых теоретиков пантюркизма [Надеин-Раевский 2018: 151]. В 1990-е гг. ничто не мешало пропаганде этой стороны его деятельности и творчества. Однако анализ показывает, что именно эти аспекты оказались практически проигнорированы не только властями (что можно было бы списать, скажем, на превентивную работу соответствующих служб), но и оппозиционными националистическими кругами, например Союзом башкирской молодежи (СБМ) или диссидентом Айратом Дильмухаметовым. В публицистике Дильмухаметова в бытность его и идеологом, и противником СБМ Валиди канонизировался в американизированных терминах (чаще всего – «отец нации») либо в модных постсоветских («лидер поколения V» – аллюзия одновременно на культовую книгу Виктора Пелевина Generation «П» и «победный» жест Черчилля V) и именовался «великий Валидов», его образ занимает центральное место в творчестве автора. Однако при этом практически нигде не затрагивается пантюркистское наследие Валиди Тогана2. И анализ всей приведенной выше обширной публицистики позволяет установить, что это не случайный пример, а тенденция. В историческом и идейном планах в Башкортостане очевидно полное отсутствие преемственности с пантюркистскими взглядами А.-З. Валиди. Реальная преемственность с образом А.-З. Валиди и в республике, и в националистических организациях типа СБМ конструировалась по линии глорификации создания национально-территориальной автономии, почти вне связи с его эмигрантским наследием. По замечанию уфимского философа Рустема Вахитова, подавляющее большинство трудов Валиди практически не только не изданы, но даже не переведены на русский язык. Переводы велись эпизодически, например, «Воспоминания» [Заки Валиди Тоган 1994], посвященные преимущественно периоду становления Башкирской республики, «История башкир» [Ахметзаки Валиди Тоган 2010] и работы, посвященные актуальной для современных республиканских элит полемике с татарскими националистическими проектами, включая пресловутый «Идель-Урал» [Валиди Тоган, Инан, Таган 2007]. Включенное наблюдение также показывает, что актив и адепты башкирского националистического движения практически не знакомы с пантюркист-ским движением и слабо им интересуются. Вся повестка носит внутренний характер, обусловленный сугубо башкирскими и российскими реалиями.
Пожалуй, наиболее показательным примером является самая массовая за всю историю национальная организация «Союз башкирской молодежи». СБМ был учрежден 16 мая 1990 г. 3 ноября был проведен первый съезд организации, председателем был избран Роберт Баимов, фактическим лидером являлся, кроме него, Артур Идельбаев. Несколько позже в тройку лидеров вошел Айрат Дильмухаметов [Шайхетдинов 2012: 75]. Общим местом в научной историографии стало понимание СБМ как наследника комсомола в РБ, но с башкирской националистической символикой и риторикой [Мухтаров 2004: 74].
В символическом плане клишированые в СМИ обвинения в пантюркизме [Амладов, Павлова 2010] базировались на сходстве у СБМ – символа, а у БПД «Кук буре» (башк. – «Серые/небесные волки») – названия с турецкой праворадикальной организацией «Бозкурт» (тур. – «Серые волки»)1. Другим популярным поводом были подростковые военно-патриотические лагеря СБМ «Бозкурт» (здесь совпадение буквальное, в башкирском языке слова «бозкурт» нет). Чтобы понять кейс с символикой башкирских организаций, нужно иметь в виду, что волк – не только почитаемое животное у всех тюрков. Волк – исторически действительно один из главных зооморфных символов башкирского народа [Илимбетова 2005: 147]. Башкорт – самоназвание башкир – расшифровывается как «волк-вожак», «глава волков» («баш» [башк.] – голова, «корт» – волк на огузских вариантах тюркских языков, к которым был близок башкирский в период обретения этнонима). В этом популярная народная этимология совпадает с наиболее распространенной академической этимологией, начиная с академика П.И. Рычкова (впрочем, академических гипотез о значении данного этнонима с XVIII в. более десятка) [Рычков 2001: 25]. Волк рассматривался как один из доминирующих элементов при выборе герба Республики Башкортостан, но был отвергнут при отборе из-за совпадения: этот грозный хищник уже был на гербе воевавшей тогда сепаратистской Ичкерии. Соответственно, при создании символа оппозиционной националистической организации образ волка представлялся практически обязательным элементом. Действительно, две из трех известных башкирских националистических организаций (СБМ, БПД «Кук буре», БОО «Башкорт») избрали своим символом волка. (Эфемерный и прочно забытый «Башкирский народный конгресс» не может быть сопоставлен ни с одной из них; впрочем, и его символом также оказался волк.) При оформлении же, поскольку сам национализм был концепцией во многом импортированной, многие его атрибуты, подходившие по местному восприятию, просто копировались доморощенными националистами, совершенно не обращавшими внимания на их настоящий контекст. Один из трех лидеров раннего СБМ Айрат Дильмухаметов объяснял: «Символ СБМ – волк-вожак, поющий песнь на скале совета стаи, в обрамлении полумесяца – был заимствован в 1993 г. у Национальной трудовой партии Турции. Он органично лег на башкирскую почву, попал в десятку, был принят широ- кой общественностью. Этот символ был и на знамени Башкирского народного конгресса, учрежденного 11.10.2003 г. в Оренбурге противниками М. Рахимова. И никакого отношения к мифическим турецким “Серым волкам” все это не имеет»1.
Нюанс в том, что на самом деле это типично постсоветская трактовка, основанная на культовой в СССР мультипликационной экранизации «Книги джунглей» Редьярда Киплинга: «скала совета стаи» есть только там, так же, как и «песнь» вожака – Акелы, в турецкой политической мифологии это восприятие, естественно, отсутствует. Персонажи советской экранизации очень удачно легли на башкирскую этническую традицию восприятия этого образа, впрочем, так же, как и на чеченскую. (По распространенной трактовке, оформление знаменитого волка (в описании – волчицы) на знамени Ичкерии было заимствовано Аллой Дудаевой, женой президента сепаратистской республики, из того же мультфильма, что, впрочем, очевидно и визуально.)
Другим популярным источником мифологии о пантюркизме башкирских националистов служили лагеря «Бозкурт». Лагеря «Бозкурт» на самом деле конструировались на собственных, весьма далеких от приписанного им зарубежного образца (которого они и не знали) представлениях о подобных лагерях, пришедших на деле из практик Советской армии. Один из создателей данных лагерей Артур Идельбаев служил в ВДВ, а другой, Айрат Дильмухаметов, в свое время добровольно ушедший на службу в армию в 1985–1987 гг. с очного отделения исторического факультета БГУ, был горячим поклонником творчества бежавшего в Великобританию экс-майора ГРУ ГШ СССР Владимира Резуна (Виктора Суворова), одного из создателей романтического образа спецназа. Он и не скрывал это: «Я и Артур Идельбаев (фактический лидер СБМ в 1995– 1998 гг. и с 2003 г. – Б.А., Ю.Ю .) в сер. 90-х гг., видя низкий бойцовский дух башкирских юношей, задумались о том, как его поднять, и с 1997 г. нами было проведено 5 военных лагерей, полноценными из которых могу считать лишь лагеря 2001 и 2002 гг. …В военных лагерях в среднем было по 100 участников возрастом от 14 до 18 лет. Продолжительность – 17 дней. Весь учебный процесс, этапы подготовки, экзамены продумывал и готовил я. Считал и считаю, что на постсоветском пространстве это были лучшие лагеря (при цейтноте времени и средств) по подготовке призывника к службе в армии, а учебная программа – лучшая по ускоренной подготовке бойца армейского спецподразделения»2. В действительности не только в символике, но и в своих практиках тот же СБМ исходил исключительно из внутренней повестки и был практически полностью нацелен на нее. Так, уже к 2002 г. СБМ полностью перешел к сотрудничеству с администрацией М.Г. Рахимова. Исключением стал именно Айрат Дильмухаметов, который по этой причине вышел из СБМ и стал яростным противником Муртазы Рахимова, за что подвергся обструкции со стороны СБМ как «враг башкирского народа». В 2003–2005 гг. Дильмухаметов пытался создать альтернативу СБМ – антирахимовский МОО «Башкирский народный конгресс», став председателем центрального совета этой созданной им организации. Однако она так никогда не стала массовой и не известна за пределами его собственного творчества. Но в исследуемом нами контексте важен тот факт, что Дильмухаметов и при оппозиции к СБМ, позиционируя себя как башкирский националист, пантюркистом никогда не был, противостояние шло по сов ершенно иным сюжетным линиям. Внутренняя повестка СБМ с
2002 г. полностью курировалась администрацией президента Башкортостана. Естественно, ни о каком пантюркизме при таких обстоятельствах не могло быть и речи.
Еще более ярким кейсом стал неожиданный союз, заключенный СБМ в 2005 г. с Евразийским союзом молодежи А.Г. Дугина. Союз не был декларативным – «евразийцы» Дугина легитимировали своим присутствием, пожалуй, самую спорную и громкую массовую акцию СБМ: противостояние СБМ анти-рахимовскому митингу в 2005 г. (последний позиционировался как попытка «оранжевого» переворота в Башкортостане, СБМ, соответственно, – как защитник РФ от «оранжевой чумы»1).
Итак, в организационной практике СБМ наблюдается преемственность с советскими и постсоветскими, а не зарубежными социальными практиками. Эклектичное заимствование символики у турецких организаций – не прозелитизм, а очевидный карго-культ. Заимствуется не структура, не идеи и концепции, поскольку они вряд ли применимы в отечественных реалиях, отсутствует какое-либо подчинение внешним акторам. У национальных и националистических организаций в республике выстраивались собственные, исключительно местные кадровые и идейные иерархии, преимущественно из представителей постсоветских гуманитарных элит, обладавших собственной политической историей и субкультурой, весьма далекой от турецких образцов, и собственная развитая национальная мифология. Данные выводы являются промежуточными и требуют, во-первых, дополнения проведенного в данной статье исследования символической и организационной составляющей практик СБМ анализом собственно идеологии этого и последующих националистических объединений РБ, во-вторых, проверки на материале поздних националистических групп БПД «Кук буре» и БОО «Башкорт» и далее – рассмотрения религиозного направления проявлений пантюркизма в РБ, результаты которых планируется опубликовать в последующих статьях.
Статья подготовлена в рамкаха проекта «Школа молодого этнополитолога» (грант Фонда президентских грантов 22-2-003352).
Список литературы Влияние пантюркизма в республиках ПФО (на материале националистических организаций Башкортостана). Часть 1
- Аватков В.А., Бадранов А.Ш. 2013. «Мягкая сила» Турции во внутренней политике России. - Право и управление. XXIвек. №2 (27). С.5-11.
- Аватков В.А., Бадранов А.Ш. 2014. «Пантюркистский» аспект в дискурсе современного татарского национального движения. - Национальная безопасность. № 2(31). С. 283-291. DOI: 10.7256/2073-8560.2014.2.10884.
- Ахметзаки Валиди Тоган. 2010. История башкир (перевод с тур. А.М. Юлдашбаева; авт. вступ. А.М. Юлдашбаев, И. Тоган). Уфа: Китап. 352 с.
- Бердин А.Т., Юсупов Ю.М. 2020. О некоторых тенденциях этноконфесси-онального развития в национальных республиках (на материале сопоставления Республики Башкортостан и Кабардино-Балкарской Республики). -Евразийский юридический журнал. № 6(145). С. 468-473.
- Валиди Тоган А.-З., Инан А., Таган Г. 2007. Служение: сборник трудов башкирских ученых-эмигрантов - лидеров национально-освободительного движения 1917-1920 годов. Уфа: Китап. 208 с.
- 1 Плиев Э. 2010. Как была остановлена оранжевая чума в Башкирии. - ИАП Евразия. Доступ: http://evrazia.oig/text/16 (проверено 20.11.2022).
- Заки Валиди Тоган. 1994. Воспоминания: в 2-х книгах. Уфа: Китап. Книга 1. 400 с.
- Илимбетова А.Ф. 2005. Культ волка у башкир. - Ватандаш. № 1. С. 147-166.
- Каюмова А.Ф. 2013. Молодежные общественные объединения Республики Башкортостан в 1990-2010 гг. Уфа: Изд-во БашГУ. 192 с.
- Кульшарипов М.М., Газизов Р.Р. 2011. Новейшее башкирское национальное движение и проблемы российского федерализма. Уфа: Педкнига. 396 с.
- Молодежь Республики Башкортостан в начале третьего тысячелетия (ред-кол.: Дж.М. Гилязитдинов, Ю.Н. Дорожкин и др.). 2005. Уфа. 151 с.
- Мухтаров Т.Г. 2004. Современный город и башкирская молодежь. Уфа: Гилем. 160 с.
- Надеин-Раевский В.А. 2018. Пантюркизм: от Османской империи до наших дней и судьбы Турции, Армении и России. М.: Русская панорама. 380 с.
- Пономарева Е.Г. 2016. «Мягкая сила» России как интеграционный ресурс. -Геополитический журнал. № 3. С. 9-17.
- Рычков П.И. 2001. История Оренбургская. Уфа: ЦЭИ УНЦ РАН. 295 с.
- Фенин Л.Н., Бибаков Н.Я. 1999. Политические партии и общественно-политические объединения Республики Башкортостан в 1998 году. Уфа: Изд-во БашГУ. 64 с.
- Шайхетдинов М.А. 2012. Национальные молодежные организации Республики Башкортостан: историястановленияиразвития(1990-2008 годы).-Вестник Челябинского государственного университета. № 16(270). С. 73-78.
- Шакуров З. 2005. Обеспечение преемственности в работе с башкирской молодежью. - Ватандаш. № 6. С. 33-36.
- Цибенко В.В. 2019. Турецкое религиозное влияние в Республике Башкортостан в контексте этнополитических процессов. - Исламоведение. Т. 10. № 1. C. 27-40.