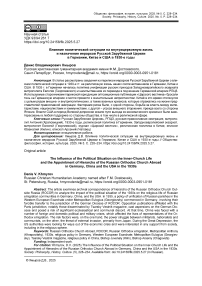Влияние политической ситуации на внутрицерковную жизнь и назначение иерархов Русской Зарубежной Церкви в Германии, Китае и США в 1930-е годы
Автор: Хмыров Д.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены сведения из переписки иерархов Русской Зарубежной Церкви о влиянии политической ситуации в 1930-е гг. на религиозную жизнь наших соотечественников в Германии, Китае и США. В 1935 г. в Германии началась политика унификации русских приходов Западноевропейского экзархата митрополита Евлогия (Георгиевского) и насильственном их переводе в подчинение Германской епархии РПЦЗ. Используемые сторонниками парижской юрисдикции оппозиционные публикации «Царского вестника» бросали тень на Германскую епархию и могли привести к значительным неприятностям. Китай в это время столкнулся с целым рядом внешне- и внутриполитических, а также военных кризисов, которые отражались на жизни представителей православной эмиграции. Факторами риска были, с одной стороны, борьба за власть между милитаристами, националистами и коммунистами, с другой ‒ угроза внешнего вторжения, прежде всего со стороны Японии. Власти США в период Великой депрессии искали пути выхода из экономического кризиса и были заинтересованы в любой поддержке со стороны общества, в том числе в религиозной сфере.
Русская Зарубежная Церковь, РПЦЗ, русская православная эмиграция, митрополит Антоний (Храповицкий), 1930-е годы, религиозная политика в Германии, Западноевропейский экзархат, митрополит Евлогий (Георгиевский), журнал «Царский вестник», религиозная политика в Китае, епископ Ювеналий (Килин), епископ Арсений (Чаговец)
Короткий адрес: https://sciup.org/149147969
IDR: 149147969 | УДК: 93/94:261.7 | DOI: 10.24158/fik.2025.5.27
Текст научной статьи Влияние политической ситуации на внутрицерковную жизнь и назначение иерархов Русской Зарубежной Церкви в Германии, Китае и США в 1930-е годы
Санкт-Петербург, Россия, ,
St. Petersburg, Russia, ,
В 1935 г., предпоследнем в жизни митрополита Антония (Храповицкого), возглавляемая им Русская Зарубежная Церковь имела положительную динамику развития, несмотря на многие трудности, в немалой степени связанные с выстраиванием отношений с принимающими странами. В Государственном архиве Российской Федерации имеются документы официальной переписки Первоиерарха, которые позволяют понять особенности внутрицерковной жизни в разных регионах мира и влияние на нее местной политической специфики в этот период.
Одним из значимых регионов проживания русских эмигрантов стала Центральная Европа, значительное число беженцев первой волны осели в Германии (Зайде, 2022). В третий год нахождения у власти в стране Национал-социалистической немецкой рабочей партии1 представители православного вероисповедания в полной мере начали ощущать на себе политическое давление. Это выразилось в начавшейся в 1935 г. политике унификации русских приходов Западноевропейского экзархата под руководством митрополита Евлогия (Георгиевского) и насильственном их переводе в подчинение Германской епархии РПЦЗ. При этом Русская Православная Зарубежная Церковь (РПЦЗ) признавалась наиболее приемлемой с точки зрения политических целей национал-социалистов, которые «считали эту Церковь консервативной в церковном и политическом плане, бескомпромиссной в отношении коммунизма и самой многочисленной по количеству прихожан за пределами СССР» (Шкаровский, 2009: 186).
В этот непростой для русских беженцев период тотального государственного контроля за всеми сферами жизни, в т. ч. религиозной, управляющий Германской епархии РПЦЗ епископ Тихон (Лященко) направил Первоиерарху письмо, датированное 11/23 февраля 1935 г.2 В письме высказывается тревога по поводу систематических критических публикаций в покровительствуемой митрополитом Антонием и пользующейся его авторитетом газете «Царский вестник», которая «уже чуть ли не год упорно травит Германию и Гитлера»3. Управляющий Германской епархии высказывает опасения, что данные публикации уже начали наносить вред как русским, находящимся в стране, так и самой Русской Зарубежной Церкви, и могли иметь далеко идущие трагические последствия: «Это сильно вредит русским в Германии, а особенно нашей Церкви, так как эта газета пользуется Вашей любовью, покровительством и Вашим именем»4.
Развернувшаяся с середины 1930-х гг. политика унификации приняла особенно жесткие формы вокруг материально благополучного прихода в Висбадене, когда Рейхсминистерством церковных дел Германии инициировалось решение о передаче Свято-Елизаветинского храма из юрисдикции митрополита Евлогия (Георгиевского) в юрисдикцию епископа Берлинского Тихона (Лященко) (Хмыров, 2025). Противостояние приняло, в том числе, форму судебных разбирательств. Так, сторонники митрополита Евлогия официально заявили в суде, что в Германской епархии Русской Зарубежной Церкви якобы присутствуют германофобские настроения. «В доказательство этого они приложили именно № «Ц[арского] Вестника», утверждая, что эта газета ‒ официальный орган Архиерейского Синода»5. По утверждению епископа Тихона (Лященко), противоположная сторона также направила в тайную полицию донос, в котором он обвинялся в нелояльности существующему строю, а в подтверждение приводился аргумент, что газета продавалась «на церковной паперти»6. Таким образом, умело используемые сторонниками парижской юрисдикции оппозиционные публикации «Царского вестника» бросали тень на Германскую епархию Русской Зарубежной Церкви и могли привести к значительным неприятностям. «Я осмеливаюсь просить Ваше Блаженство повлиять на преданную Вам и покровительствуемую Вами редакцию, чтобы она прекратила эту совершенно незаслуженную травлю Гитлера и Германии», ‒ обращается к Первоиерарху епископ Тихон7.
В подтверждение своих слов о неразумности и опасности нелицеприятных для власти публикаций «Царского вестника», управляющий Германской епархии указывает на низкий интеллектуальный уровень автора заметок. «Корреспондент его из Германии, видимо, человек опустившийся и малонормальный, я не говорю о его безграмотности»8. Епископ Тихон отмечает ряд ложных утверждений, приведенных в статьях. Так, словацкий монастырь назван им ставропигиаль- ным, поскольку имел собственный Синод1. Также он опровергает утверждение, что в Спарте существовал «особый ров, куда бросали слабо рождённых младенцев (это, очевидно, Тайгетская скала стала особым рвом)…»2. Подобные невежественные утверждения сотрудников газеты ‒ оппонентов нацистской власти, заставили епископа Тихона обвинить их в эксплуатации имени маститого и авторитетнейшего митрополита Антония: «Ваша доброта и сострадательность здесь, несомненно, эксплуатируются недостойными людьми»3.
После данных общих слов глава Германской епархии персонифицирует свое обвинение уже конкретно в адрес Н.П. Рклицкого4, который, как известно, пользовался особым покровительством со стороны митрополита Антония, и который тем более «не должен вредить нашей соборной юрисдикции», ‒ заключает свое послание епископ Тихон5.
К письму приложен экземпляр газеты «Царский вестник», № 439, датированный 10 марта/ 25 февраля 1935 г.6 Среди прочего обращает на себя внимание ее вторая страница, где помещен ответ митрополита Антония на вопрос о своем отношении к современной Германии, заключающийся в том, что он «далек от политической жизни и не знает современных вождей Германии <…>»7.
Очевидно, ответ носит весьма лаконичный характер, и на то имелись причины. С одной стороны, учитывая преклонный возраст и постоянное проживание в другой стране, а также сложную внутриполитическую ситуацию в Германии, понятно, что митрополит Антоний уклонился от прямой поддержки существующего строя, придерживаясь линии невмешательства. С другой стороны, национал-социалистический режим только набирал силу и не проявил в полной мере свою античеловеческую сущность. Впрочем, из материалов данной переписки следует, что русская церковная эмиграция, оказавшаяся в Германии в период нахождения у власти национал-социалистов, уже начала ощущать на себе их давление. Это выражалось, прежде всего, в проводимой политике унификации, что являлось прямым вмешательством в религиозный выбор паствы, во внутреннюю жизнь Церкви. Что касается высказанных епископом Тихоном опасений, то в тоталитарном государстве, в которое превращалась в те годы Германия, от этнических русских верующих требовалось немало мужества. Осмотрительность и осторожность в высказываниях и поступках прочно вошли в жизнь наших соотечественников.
Пребывающая в Китае русская православная эмиграция также испытывала на себе негативное влияние политических решений. Об этом говорят факты, приведенные в письме епископа Ювеналия (Килина) от 17 февраля/2 марта 1935 г.8 Сам иерарх в 1920 г. эмигрировал в Харбин и почти все годы беженской жизни совершал свое служение в Китае. В частности, он являлся строителем и настоятелем Казанско-Богородицкого монастыря в Харбине. «После революции поток беженцев широкой волной ринулся в Северную Маньчжурию. Облик Харбина совершенно изменился. Русское население увеличилось в несколько раз. Вместе с беженцами и войсковыми частями прибыло много духовенства», ‒ вспоминал протоиерей Аристарх Пономарев, который в эти годы являлся доцентом богословского факультета Института св. Владимира в Харбине и ректором Харбинской духовной семинарии9.
В начале своего обращения епископ Ювеналий подробно описывает обстоятельства своей архиерейской хиротонии ‒ события действительно чрезвычайно важного в жизни любого священнослужителя, избранного на высокую степень епископства. Мы встречаем здесь много теплых слов благодарности, сыновнего почтения и даже благоговения автора перед митрополитом Антонием. «Почитаю священным долгом принести Вашему Блаж[енству] свою глубокую благодарность за отеческую любовь, доверие и избрание меня недостойного на это великое ответственное, пастырское служение для церкви Божией»1.
Архиерейская хиротония во епископа города Урумчи с титулом Синьцзянский, согласно письму, состоялась 10 февраля/28 января 1935 г. в Свято-Николаевском кафедральном соборе с участием дальневосточных иерархов во главе с архиепископами Харбинским и Маньчжурским Мелетием (Заборовским) и Камчатским и Петропавловским Нестором (Анисимовым)2. На богослужении присутствовали новые молодые Преосвященные епископы, оба хиротонисанные немного ранее, в 1934 г.: Хайларский Димитрий (Вознесенский) и Шанхайский Иоанн (Максимович). Отметим, что, несмотря на сложные политические условия ‒ оккупацию осенью 1931 г. СевероВосточного Китая Японией и образование там подконтрольного японцам государства Маньчжоу-Го, ‒ Харбинская епархия в эти годы плодотворно развивалась.
Епископ Иоанн (Максимович) в глазах верующих был прекрасным миссионером, духовным писателем, благотворителем, нестяжателем, имевшим особые духовные дары. «Для меня было большое духовное утешение видеть участником в совершении хиротонии великого молитвенника и подвижника благочестия владыку Иоанна Шанхайского-Максимовича <…>. Здесь, в Харбине, Владыка Иоанн приглашался побывать во все городские храмы, школы и благотворительные учреждения, и все с великим вниманием слушали его вдохновенное святительское слово», ‒ с большой теплотой пишет Председателю Архиерейского Синода епископ Ювеналий, при этом сожалея, что высокий гость пробыл у них всего пять дней и должен был возвратиться к месту своего служения3.
В качестве приложения епископ Ювеналий направил номера местных газет, которые описывали торжественное мероприятие, а более подробная информация, по его словам, будет опубликована в следующем номере журнала «Хлеб Небесный»4. Равным образом на стадии подготовки находился отчетный доклад Архиерейскому Синоду, включающий тексты речей новоизбранного кандидата при наречении и архиепископа Мелетия (Заборовского) при вручении архиерейского жезла5.
Во второй, деловой части письма иерарх сообщает детали своей предстоящей повседневной работы. Прежде всего, новый епископ не имел возможности отправиться к месту своего непосредственного служения в провинцию Синьцзян. Причиной, по его словам, служили развернувшиеся там трагические события, вызванные действиями советских властей.
Военно-политические проблемы напрямую влияли на церковную жизнь русских беженцев в этом регионе. После разгрома армий Колчака на Дальнем Востоке и атамана А.И. Дутова в Туркестане в 1919–1920 гг. в Китай хлынул поток русских, бежавших через Дальний Восток и Среднюю Азию (некоторые исследователи называют цифру более 500 тыс. человек) (Поздняев, 1998: 45).
Вместе с русскими эмигрантами православие проникло в те районы Китая, где раньше было мало распространено или почти не известно. Так, например, история Православной Церкви в Синьцзяне совпадает с историей возникновения русской колонии, начало которой положил Кульджинский договор 1851 г. между Россией и Китаем. Но до 1920 г. русские в Синьцзяне были немногочисленны. В 1920 г. в Синьцзян вступили белогвардейские части атаманов Б.В. Анненкова и А.И. Дутова. В их составе были и священнослужители. Первоначально белые части сохраняли свою военную организацию, и священники были на положении служивших при воинских частях. После смерти атамана А.И. Дутова в феврале 1921 г. военная организация быстро распалась, а все церкви в Синьцзяне стали приходскими.
В 1932–1933 гг. начался новый приток населения в Синьцзян за счет недовольных коллективизацией в Туркестане и Казахстане. Кульджа, Чугучак и Урумчи по-прежнему оставались церковными центрами, но стали появляться и другие приходы. В одних местах строились молитвенные дома, в других служба шла во временных помещениях.
Однако русская православная эмиграция, вынужденная покинуть Советскую Россию, и за ее пределами не могла чувствовать себя в безопасности. «Одним словом, гонения, которым подвергалась церковь на Родине, продолжались и здесь, только в иных масштабах», ‒ сообщает современный исследователь (Печерица, 1999: 19). Так, в 1929 г. советские войска на Дальнем Востоке вторглись в пределы Китая в Трёхречье (на территорию автономной Внутренней Монголии в Маньчжурии), преследуя русских беженцев из Сибири и белогвардейцев. Волна русских беженцев хлынула в Харбин, где все они смогли получить приют, и лишь к 1930 г. стали возвращаться в Трёхречье.
Что касается внутриполитической ситуации, то в первой половине ХХ в. Китай оставался нестабильным государством, губернаторы провинций которого ощущали себя независимыми от центра полновластными хозяевами. При этом на окраинах их власть находилась под постоянной угрозой со стороны национально-сепаратистских сил. Такое положение было характерно и для Синьцзяна ‒ северо-западной провинции Китая, населенной стремившимися к независимости уйгурами ‒ тюркоязычным мусульманским народом, и отчасти дунганами ‒ китайскоязычными мусульманами.
Во главе региона в начале 1930-х гг. стоял Цзинь Шужэнь. В апреле 1931 г. в Синьцзяне вспыхнуло Кумульское восстание. Расположенный на самом востоке провинции Кумуль до марта 1930 г. оставался столицей автономного Кумульского ханства, однако после смерти хана Цзинь Шужэнь его упразднил, что и послужило формальным поводом к восстанию. Повстанцы двинулись на Кумуль с целью его захвата. В результате столкновений, в феврале 1932 г. Цзинь Шужэнь вынужден был обратиться за помощью к СССР. 3 мая 1933 г. в Синьцзян прибыли первые красноармейские регулярные соединения, которые уже к концу месяца подавили восставших. Однако, как выяснилось, их поражение не было окончательным, и тогда в Синьцзян практически открыто вошли шесть полков войск НКВД. Восстание было подавлено, но поскольку внутриполитическая ситуация в Синьцзяне по-прежнему оставалась достаточно сложной, то советские части, участвовавшие в операции, смогли покинуть Синьцзян лишь в январе 1938 г.1
Таким образом, внешне- и внутриполитические события 1920–40-х гг. в Китае, в т. ч. национально-освободительная война против Японии, напрямую оказывали влияние на деятельность Российской духовной миссии, затрудняя или вовсе обрывая ее связи с отдаленными районами. «Фактически прервалась связь с Синьцзяном, отсутствовал в благочинии и объединяющий центр, ‒ церковная жизнь, таким образом, шла самотеком», ‒ пишет священник Дионисий Поздняев (1998: 255).
В такой непростой ситуации новый епископ Ювеналий (Килин) приступил к своим архипастырским обязанностям. Он обещает митрополиту Антонию, как только представится возможность, «отправиться к месту своего нового назначения для устройства Синьцзянской церкви»2. До тех пор архипастырское руководство будет осуществляться в заочной форме, но с максимальным использованием всех возможностей.
Как уже отмечалось, Русская Зарубежная Церковь, сохраняя преемственность и традиции Российской Православной Церкви, придерживалась в своем устройстве строгой иерархической структуры. Так, не имея возможности отбыть к месту своего непосредственного служения и вынужденно оставаясь в Харбине, епископ Ювеналий (Килин) получил одобрение на это архиепископа Мелетия (Заборовского) и своего непосредственного начальника епископа Виктора (Свя-тина). К тому же у последнего он был на приеме в Пекине в дни празднования Рождества Христова, где смог обстоятельно познакомиться с делами Духовной миссии и обсудить ряд ключевых тем, касающихся его будущей пастырской работы в миссии и в Синьцзянской провинции3.
В Харбине епископ Ювеналий (Килин) продолжил осуществлять обязанности настоятеля в основанном им мужском монастыре и духовно окормлять монашескую братию и прихожан. Вместе с этим епископ Виктор (Святин) поручил ему заведование шестью расположенными в Северной Маньчжурии храмами, принадлежавшими миссии: «в Дайрене, Монделе [неразб.], Синьцзяне (Чань-Чунь), Харбине, Хайларе и Маньчжурии»4. Параллельно епископ Виктор зачислил его членом Пекинской Духовной миссии, с присвоением соответствующих этому положению прав, а также прикрепил к нему в качестве помощников ряд сотрудников миссии5.
Таким образом, из переписки епископа Ювеналия (Килина) с митрополитом Антонием (Храповицким) видно, что национально-политическая ситуация в Китае напрямую влияла на жизнь и деятельность Православной Церкви. Факторами риска были, с одной стороны, борьба внутри страны за власть между милитаристами, националистами и коммунистами, с другой ‒ угроза внешнего вторжения, прежде всего со стороны Японии. С образованием новых государств и изменением сфер влияния русским эмигрантам приходилось менять образ действий, в попытках противостоять культурной, имущественной, религиозной дискриминации.
На североамериканском континенте русские беженцы также испытывали на себе влияние государственной политики, особенно в сфере экономики, поскольку в начале 1930-х гг. США и Канада переживали Великую депрессию. В этой ситуации иерархи Русской Зарубежной Церкви были вынуждены особенно осмотрительно назначать священнослужителей. Об этом можно прочитать в письме митрополита Анастасия (Грибановского) на имя митрополита Антония (Храповицкого) от 27 февраля 1935 г.1 Суть переписки заключается в обмене мнениями по поводу двух лиц: кандидата на рукоположение в архиерея протопресвитера Григория Остроумова и возможного перевода на служение из Канады на Детройтскую кафедру епископа Виннипегского Арсения (Чаговца).
Митрополит Анастасий был убежден в необходимости свидетельства третьих лиц, которые могли бы поручиться за кандидата на рукоположение (что являлось сохранением традиций Церкви). В данном случае ходатайствовать о хиротонии (в качестве своего викария) мог только архиепископ Западно-Европейский Серафим (Лукьянов). Таким образом, предполагалось конкретное место служения нового епископа ‒ Западная Европа. Немаловажно, что протопресвитер Григорий Остроумов являлся духовником Великого князя Николая Николаевича Романова (млад-шего)2. Близость к политическому лицу такого масштаба придавала кандидату в глазах Церкви вес и авторитет. «Остроумов мог бы быть рукоположен во епископа только по представлению архиепископа Серафима в качестве викария последнего, как духовник В.К. Николая Николае-вича»3, ‒ пишет митрополит Анастасий (Грибановский).
Епископ Арсений (Чаговец), о котором также идет речь в переписке, совершал свое служение в Канаде, но столкнулся с непреодолимыми трудностями в противостоянии как с обновленцами, так и с украинскими националистами, вплоть до покушения на его жизнь. Митрополит Анастасий полностью поддержал предложение архиепископа Детройтского Виталия (Максименко) назначить того своим викарием: «Что касается назначения о. Арсения Чаговца на Детройтское викариатство, то я со своей стороны вполне поддерживаю это предложение Владыки Виталия»4. Здесь, равно как и в предыдущем случае, была важна личная рекомендация, и особенно тот факт, что оба иерарха своим служением могли принести пользу государству. «Личная рекомендация его со стороны архиеп[ископа] Виталия служит, конечно, [залогом] их соответствия друг другу, что также важно для Америки»5.
Как можно заметить, при назначении священнослужителей на ключевые должности в Церкви учитывались такие факторы, как близость к весомой политической фигуре и практическая польза, которую могли принести в конкретной стране кандидаты на эти должности.
Политическая ситуация в различных регионах мира, ставших местом пребывания русских православных эмигрантов, имела свои особенности. 1935 год в Германии ‒ период становления тоталитарного государства, решительно подчинявшего все сферы жизни общества своим политическим целям. Китай в это время столкнулся с целым рядом внешне- и внутриполитических, а также военных кризисов. США переживали Великую депрессию, ее власти искали пути выхода из экономического кризиса и были заинтересованы в поддержке общества, в том числе в религиозной сфере. Строительство и развитие внутрицерковной жизни Русской Зарубежной Церкви в этот период характеризуется со стороны ее иерархов тщательным учетом внешних обстоятельств и гибким подходом в достижении своих задач в рамках сложившихся обстоятельств.