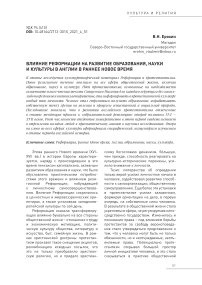Влияние Реформации на развитие образования, науки и культуры в Англии в раннее Новое время
Автор: Ерохин Владимир Николаевич
Журнал: Сфера культуры @journal-smrgaki
Рубрика: Культура и религия
Статья в выпуске: 2 (4), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется культуротворческий потенциал Реформации и протестантизма. Новое религиозное течение повлияло на все сферы общественной жизни, включая образование, науку и культуру. Идеи протестантизма, основанные на необходимости самостоятельного чтения текста Священного Писания для каждого верующего без каких либо посредников и внешних авторитетов, стали формировать в протестантской культуре особый тип личности. Человек стал стремиться получать образование, вырабатывать собственную точку зрения на явления и процессы естественной и социальной природы. Исследование показало, что в развитии английского протестантизма отмеченные в статье тенденции привели к «образовательной революции» второй половины 16 - 17 веков. Рост численности студентов университетов в этот период свидетельствует о стремлении молодых людей к прагматическому знанию в научных исследованиях. Опора на слово во всех сферах культуры сформировала специфический логоцентризм изучаемого в статье периода английской истории.
Реформация, раннее новое время, англия, образование, наука, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/170178626
IDR: 170178626 | УДК: 294 | DOI: 10.48164/2713-301X_2021_4_51
Текст научной статьи Влияние Реформации на развитие образования, науки и культуры в Англии в раннее Новое время
Эпоха раннего Нового времени (XVI– XVII вв.) в истории Европы характеризуется, наряду с происходившим в это время генезисом капитализма, активным развитием образования и науки, что было обусловлено практическими потребностями этого времени и влиянием религиозной Реформации, побуждавшей к личностному самосовершенствованию. Влияние Реформации сохранилось в ценностных и мировоззренческих ориентирах, а также установках западноевропейской культуры по сей день.
Реформация оказала трансформирующее влияние буквально на все стороны общественной жизни – отношение к труду и экономическую мотивацию, политическую культуру общества, литературу и искусство, быт, семейную жизнь. В рамках христианской доктрины протестантизм произвел такое смещение акцентов, рекомбинацию исходных посылок, что это не только преобразило христианскую религию, но и придало христиан- скому богословию динамизм, бóльшую, чем прежде, способность реагировать на культурно-исторические перемены, усилило внимание к личности.
Тезис лютеранства об оправдании только верой усилил личностное начало в человеке, содействовал развитию способности к самоорганизации, общественному самоуправлению. Еще более эти установки в протестантизме усилил кальвинизм, формируя ориентацию на дела, в первую очередь, на собственные силы человека. В результате в общественной жизни стала укрепляться сфера, не регулируемая непосредственно государством. Изменилось и понимание права – под влиянием борьбы протестантов за свободу вероисповедания стало утверждаться представление о том, что у человека могут быть не только обязанности, но и неотчуждаемые, неотъемлемые права. Потенциально протестантизм открывал большой простор личной инициативе человека, и это стало сказываться в практике общественной жизни. Было разрушено также и отрицательное средневековое отношение к ростовщичеству, сдерживавшее развитие капитализма.
Реформация оставила глубокий след также и в английской культуре, повлияв практически на все сферы общественной жизни.
Развитию образования, науки и культуры в Англии раннего Нового времени посвящён целый ряд британских и североамериканских исследований [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Есть основания утверждать, что влияние Реформации уже через несколько десятилетий после выступления в 1517 г. Мартина Лютера придало заметный импульс развитию образования в протестантских странах. Теперь религиозные службы проводились на языке, понятном для прихожан, а текст Священного Писания тоже был понятен и доступен для всех верующих. Над этим текстом можно и нужно было размышлять.
В англо-саксонском мире это прослеживается очень отчетливо. Л. Стоун, проанализировав ситуацию в высших учебных заведениях Англии в 1560–1640-е гг., утверждал, что процессы, происходившие в это время в образовательной сфере, можно оценить как «революцию в образовании». Он представил общую динамику поступлений данного периода в университеты. Первая волна значительного увеличения поступлений в университеты, прошедшая в 1560-е гг., достигла своего пика около 1583 г., затем последовало затишье до восшествия на престол короля Якова I Стюарта (1603–1625). Предположительными причинами спада поступлений в университеты с 1583 по 1604 гг., полагал Л. Стоун, могли быть религиозно-идеологические. До этого, по его мнению, на увеличение поступлений в университеты сильно влияли пуритански настроенные священники, а в 1583 г. архиепископом Кентерберийским стал Джон Уитгифт (1583–1604), противник пуритан, и они стали опасаться за судьбу университетов, англиканской церкви, так как церковные администраторы стреми- лись теперь создать тут неблагоприятный для пуритан климат. Могло повлиять на уменьшение числа поступлений, считал Стоун, также некоторое ухудшение экономического положения Англии в последнее десятилетие правления королевы Елизаветы I (1558–1603): неурожаи, рост цен, повышение налогов, расстройство торговли. Но после 1604 г. вновь начался наплыв поступлений в университеты, продолжавшийся до Английской революции 1640–1660 годов. Доля поступающих в университеты в соотношении ко всему населению страны была накануне Английской революции такова, что вновь была достигнута только в 1860-е годы [6, p. 50–51].
Л. Стоун провел довольно детальные статистические подсчеты, используя материалы о поступлениях, сохранившиеся в университетских архивах. Он установил, что в 1630-е гг., на которые пришелся пик притока в высшие учебные заведения, ежегодно поступали примерно 1 240 молодых людей, если учитывать поступления в университеты, а также в юридические корпорации Лондона (Линкольнс-Инн, Грейс-Инн, Миддл-Тэмпл, Иннер-Тэмпл). Последние по своему статусу также являлись высшими учебными заведениями. Численность населения Англии в изучаемый период оценивается приблизительно в 5,2– 5,5 млн человек. В университеты поступали в возрасте 15–19 лет. Ежегодно возраста 17 лет достигало 50 040 лиц мужского пола, и 1 240 поступавших в высшие учебные заведения составляли 2,48 % от всех лиц, достигших этого возраста [6, p. 56].
Л. Стоун проанализировал также социальный состав высших учебных заведений Англии того времени. Наиболее привилегированными учебными заведениями в 1560–1640 гг. продолжали оставаться юридические корпорации в Лондоне: здесь доминировали выходцы из среды крупной землевладельческой аристократии, в 1570-е гг. составлявшие 85 % всех обучающихся. Далее, в течение данного периода доля сыновей юристов, выходцев из буржуазной среды среди обучающихся студентов, продолжала возрастать. В 1630-е гг. представители землевладельческой аристократии заполняли юридические корпорации на 75 % [6, p. 59].
Данные о поступлениях в университеты представителей различных социальных групп Л. Стоун рассмотрел на примере двух колледжей Кембриджского университета, Caius College и St. John’s College. В этих двух колледжах накануне гражданской войны среди обучавшихся студентов треть составляли выходцы из джентри, четверть – из духовенства и формировавшихся групп профессионалов-интеллектуалов (адвокатов, учителей и т. п.), примерно 16,5 % – из ремесленников, торговцев, средних слоев города [6, p. 65–66].
Л. Стоун считал, что стремление дать высшее образование своим детям, проявившееся в среде английского состоятельного класса с середины XVI в., следует рассматривать и как следствие влияния религиозной Реформации, и как признак экономического благополучия этих социальных групп в Англии того времени. В стране активизировалась городская жизнь во всех своих проявлениях, и пребывание в университете, по мнению состоятельных родителей, ограждало их детей от многих искушений юности. По согласованию с родителями университетские наставники не только контролировали расходы своих питомцев, но даже могли их подвергать телесным наказаниям.
В это время наблюдается поток благотворительных пожертвований университетам, заметно повышается оплата труда и денежное содержание преподавателей. За счет благотворительных завещаний было учреждено около 500 стипендий для недостаточно состоятельных студентов в университетах. На получение стипендии, как отмечал Л. Стоун, проталкивало своих протеже высшее духовенство, да и джентри.
Стоун показал, что были созданы возможности для того, чтобы работать во время обучения в колледже в сфере услуг – бедные могли наниматься прислу- живать состоятельным сверстникам-студентам тут же, в учебном заведении. Учёный утверждает, что колледжи в целом поддерживали в составе студентов разумный баланс между богатыми и бедными: в любом колледже существовала необходимость в том, чтобы состоятельные студенты имели слуг, которых брали из числа неимущих студентов.
Стоун считает бессмысленными дискуссии о том, какие классы получили наибольшие выгоды от происходившего в стране бума в образовании. По его мнению, представители всех социальных групп, чей достаток поднимался над уровнем удовлетворения лишь насущных жизненных потребностей, имели доступ к университетскому образованию: землевладельческая знать, джентри, городская и сельская интеллигенция, буржуазия, ремесленники, выходцы из семей копигольдеров, арендаторов. Все они имели возможность учиться в университетах в рассматриваемый им период. В высших учебных заведениях не было только выходцев из самых низов – дети в таких семьях очень рано начинали работать, и у большинства из них нужда подавляла социальную мотивацию, сужала кругозор и не давала возможности развиться тяге к образованию.
Л. Стоун приходит к выводу, что уровень образованности в английском обществе середины XVII в. по европейским меркам был высок: более половины мужского населения Лондона в это время было грамотным, в графствах, окружающих Лондон, треть мужского населения могла подписаться своим именем, и большинство из них, видимо, умели читать. После событий 1640–1660 гг. в условиях реставрации Стюартов усилились консервативные тенденции в подходе к образованию. Уровень образованности, как в середине XVII в., был достигнут в Англии лишь после Первой мировой войны [6, p. 71–72].
Причины такого образовательного бума Л. Стоуну в основном ясны. Он связывает их с ликвидацией церковной монополии на образование в эпоху
Реформации, социально-экономическим развитием общества, генезисом капитализма, требовавшим увеличения числа образованных профессионалов. Кроме того, поднимались средние классы, не жалевшие средств на образование своих детей. Большой вклад в повышение образовательного уровня английского общества внесли пуритане. Они отмечали религиозное значение образования для становления личности, рассматривали его как опору в борьбе с невежеством, богохульством и праздностью.
В период междуцарствия в 1649– 1660 гг. произошло расширение образования на всех уровнях, модернизация курсов обучения. В 1641 г. в Англию был приглашен известный чешский педагог Ян Амос Коменский (1592–1670). Пуритане предлагали ввести всеобщее начальное образование, создавали новые школы. Во времена протектората (1653–1660) планировалось открытие третьего университета в Дареме [6, p. 72–73].
Прямое влияние принадлежности к протестантскому вероисповеданию на повышение уровня образованности в обществе, как считал Л. Стоун, наглядно показывает пример пуританской Новой Англии. Здесь отнюдь не в самых благоприятных экономических условиях переселенцы сразу начали создавать широкую систему образовательных учреждений. Уже при жизни первого поколения переселенцев был основан Гарвардский университет (1636). Главам семей было поручено начальное образование детей и слуг, каждое поселение из 50 семей должно было на коллективные общественные средства нанять школьного учителя, каждое поселение с числом семей более 100 – открыть среднюю школу. В результате в пуританской Новой Англии к 1650-м гг. 90 % глав семей и 40 % их жен могли читать и писать. Доля же студентов колледжей по отношению к небольшому по численности населению была такова, что процент студентов в колледжах США к общей численности населения в XX в. между двумя мировыми войнами был ниже, чем в 1650-е годы [6, p. 73].
Среди членов революционного Долгого парламента, отмечал Стоун, доля депутатов, имевших университетское образование, составляла 50 %, но полных данных о депутатах нет. Он полагал, что эта доля может быть увеличена до 60 %. Такого уровня образованность членов парламента вновь достигла в середине XIX в. Затем она вновь снизилась с приходом в парламент депутатов от лейбористской партии [6, p. 78–79].
После революции 1640–1660 гг. уровень образованности в английском обществе по ряду причин начал снижаться. Упадок религиозного энтузиазма уменьшил объем завещаний, составленных на образовательные цели. Уменьшилось и число разбогатевших землевладельцев, которые стремились бы дать высшее образование своим детям. Джентри испытывало экономические трудности из-за увеличения налогообложения и отставания размеров роста рент от роста цен. Важным новшеством в образовательной деятельности было и то, что свои образовательные учреждения стали создавать диссентеры и нонконформисты, получившие возможность для легальной деятельности после издания Акта о веротерпимости 1689 года. Высшими учебными заведениями у них были академии. Сохранявшееся в среде английских диссентеров религиозное рвение способствовало тому, что эти негосударственные учебные заведения давали хорошее образование, не уступавшее университетскому. Диссентеры-нонконформисты не могли поступать в университеты, где царила англиканская церковь, что также уменьшило количество студентов в Оксфорде и Кембридже [6, p. 79].
В среде британских историков происходили дискуссии о социальных основах научной революции XVII века. Х.Ф. Кирни полемизировал с известным британским историком К. Хиллом, который в своей интерпретации развития образования, науки в Англии в конце XVI – первой половине XVII в. утверждал, что поднимавшаяся буржуазия в это время была опорой новой науки, образования и прогресса.
Кроме того, выразителями этих настроений были и пуритане. Хилл заявлял, что гражданская война во время революции в Англии происходила между «приверженцами разных школ в астрономии: между парламентариями – сторонниками гелиоцентрической системы и роялистами – сторонниками системы Птолемея». К. Хилл писал также об основании в 1596 г. в Лондоне учебного заведения, по его мнению, нового типа – Грешем Колледж. Его контролировали купцы и торговцы, а не духовенство, и образовательные программы колледжа были нацелены на приобретение практического знания [8].
Х.Ф. Кирни раскритиковал эти взгляды К. Хилла. По его словам, «Хилл представляет свою версию привлекательно и умело. Он, опираясь на воображение, выстраивает свои свидетельства, пишет убедительной прозой», которая не соответствуют фактам [4, p. 86–87].
Исследуя преподавательский состав Грешем Колледжа и его учебные программы, Кирни пришел к выводу, что он не был учебным заведением, отличным от университета. В нем университетское по характеру образование было сделано доступным и приспособленным к уровню населения Лондона, а программы включали не только математику, навигацию, но и риторику, богословие, гражданское право. Грешем Колледж был настолько же светским, насколько и «клерикальным». И здесь некоторые преподаватели имели священнический сан, как и в университетах, а в отношении религиозных настроений в этом учебном заведении они были, скорее, усредненно протестантскими, близкими к латитудинарианским, чем пуританскими. При обстоятельном рассмотрении Грешем Колледж выступает не новым образовательным учреждением, созданным в интересах поднимающегося капиталистического класса, а учебным заведением, в значительной мере обязанным прошлому. Оно представляло собой реорганизацию академической культуры в среде столицы, в Лондоне, с некоторым признанием важности практических нужд в обучении [4, p. 89].
В полемике с К. Хиллом Х.Ф. Кирни обращается также к фактам и мнениям, приводимым другими исследователями данной эпохи. Британский историк науки Ева Тейлор, например, в своем исследовании о математиках в правление Тюдоров и Стюартов отмечала, что число математиков, постоянно занимавшихся наукой, в это время было очень невелико, примерно 150 человек [9]. Они нуждались в покровительстве, при покровителях выполняли определенные практические работы, связанные, чаще всего, с межеванием земель, навигацией. По мнению Е. Тейлор, выдающуюся роль в поддержке новой науки сыграло джентри. Среди покровителей ученых бывали и случаи поддержки со стороны крупных торговых компаний, но торговцы часто отказывали в помощи или выставляли жесткие практические условия. Хилл же выдвигал тезис, что купцы и ремесленники поддерживали новую науку. Но условия жизни этих социальных групп в конце XVI в., отмечает Х.Ф. Кирни, были далеко не самыми благоприятными – в это время сократились объемы внутренней торговли, ремесленные и промышленные предприятия работали с недогрузкой, обострились социальные противоречия. Можно быть уверенным, считает Кирни, что оценка английских торговцев этого времени как «прогрессивных и дальновидных» является ошибочной, поскольку не существует ясной и очевидной связи между принадлежностью к купечеству и политическим, религиозным и научным радикализмом. Все достижения в науке этого времени были достижениями горстки людей, для всех из них наука была творческой, а не практической деятельностью с утилитарными целями. Поэтому Х.Ф. Кирни приходит к выводу, что «ни один торговец в это время не внес прямого вклада в науку» [4, p. 93].
Особые возражения у Кирни встречает утверждение Хилла о прямой связи пуританизма с наукой. В целом протестантизм, и в том числе пуританизм, как видно по многочисленным свидетельствам, вне всякого сомнения, пробуждал тягу к знанию, специальное внимание к образованности. Поначалу понимание содержания образованности всеми протестантами было примечательно традиционным и отличалось даже некоторой настороженностью по отношению к лицам, обладавшим высокой ученостью или имевшим такую репутацию. Протестанты связывали такую высокую ученость с принадлежностью к католицизму, ложной, в их понимании, религии, или же упрекали таких ученых лиц в том, что они нечувствительны к тому, что нужно народу. Х.Ф. Кирни отмечал, что пуританизм принес с начала XVII в. в религиозную жизнь то, что называют «энтузиазмом». Термин этот используется исследователями данного периода и в контексте религиозной истории реформационного периода и означает примерно «религиозную взвинченность с элементами мракобесия». Пуританизм в этом смысле нашел выражение в деятельности и мировоззрении индепендентов в революционный период с характерной для этих борцов за религиозную и политическую свободу настороженностью в отношении к университетам, к использованию учености в религиозных делах, и требованием собрать все действующие законы в одну книгу. Разветвленность существовавшего законодательства, по мнению индепендентов, только осложняла жизнь простому народу. В пуританской среде настоятельно подчеркивалось требование пользоваться простым стилем религиозных проповедей, без использования ученых аллюзий и образов: сами пуритански настроенные духовные лица заявляли, что священник, вступивший на кафедру для проповеди, своими речами должен духовно наставлять прихожан, а не демонстрировать содержанием и стилем проповедей свою ученость.
Некоторые ученые этого времени имели связи в пуританских кругах. Но, если обратиться к примеру многих ведущих исследователей того времени, например к взглядам Уильяма Гарвея (1578–1657), Роберта Бойля (1627–1691), Исаака Ньютона (1642–1727), то можно убедиться, что они принадлежали к совершенно иной традиции религиозной мысли, которая тоже развилась в английском протестантизме: ее можно назвать латитудинаристской, умеренной. В религии они отводили больше места разуму, чем эмоциональному опыту.
Для пуритан был характерен и яростный антиаристотелизм, так как философия Аристотеля отдавала предпочтение умозрительным видам знания практическим. На формирование практических наклонностей в мировоззрении пуритан, считал Кирни, повлиял французский философ и логик Пьер Раме (1515–1572). Из аристотелевской логики он убрал все ее черты, которые, по его мнению, были бесполезны в практической жизни. Логику Раме высоко ценил известный пуританский богослов У. Перкинс (1558– 1602), другие авторитетные пуританские священники [4, p. 95–96]. Это направление в науке не интересовалось ее развитием как познавательной деятельности ради самой себя, ради внутрина-учных целей. Типичным приверженцем Раме был, по оценке Кирни, и приехавший в Англию чешский педагог Ян Амос Коменский, который проповедовал упрощенный и утилитарный подход к изучению языков. Неудивительно, что ученые этого толка скептически относились к возможности доказательства достоверности гелиоцентрической космологии. Так, Коменский не разделял идеи Коперника. Эти прагматики толка Раме в космологии становились на позиции Библии – ее информации на данный счет им было вполне достаточно. Аналогичную позицию выразил и Джон Мильтон в поэме «Потерянный рай» (1667). Кирни называет её «прагматической в самом вульгарном смысле этого слова», «обскурантистским утилитаризмом, враждебным всем исследованиям нерешенных проблем в изучении физического мира» [4, p. 97–98]. И в астрономии периода революции тоже не совсем ясно, на чьей стороне в космологической теории были сторонники парламента. Кирни считает, что библейски настроенные парламен- тарии были сторонниками компромисса в космологии между гелиоцентризмом и геоцентризмом, предложенного датским астрономом Тихо Браге (1546–1601), спасая буквальный смысл Библии.
Тем не менее, отмечал Х.Ф. Кирни, все это не означает, что отсутствовала связь между развитием протестантизма и новой, опирающейся на индукцию и дедукцию, наукой XVII века. Более критичный подход к религиозным авторитетам, характерный для эпохи Реформации, создавал духовную атмосферу, предрасположенную к критическому подходу также и к догмам в науке. Но не следует проводить прямой связи между социально-экономическим развитием и историей науки, считает Кирни, так как революционные открытия в науке были результатом, в сущности, умозрительных занятий и поначалу не имели практических применений. Реформация, протестантизм постепенно формировали, скорее, духовную атмосферу, в которой сложились интеллектуальные предпосылки, благоприятные для развития новой науки.
Только в дальнейшем протестанты стали чуждаться питейных заведений, осуждая даже товарищеские компанейские выпивки. В пуританской среде появилось мнение о том, что за здоровье не следует поднимать тосты и пить – за здоровье лучше помолиться. Со времени около 1580 г. усилились нападки английских протестантов на светскую культуру, что особенно наглядно видно на примере театра. Началось также существенное (хотя и не ставшее полным) расхождение между светской и духовной музыкой.
Впоследствии произошла интеграция английской культуры с этими протестантскими установками – она изменилась вследствие воспринятых ею протестантских влияний. Под влиянием Реформации стал происходить переход от устной и визуально-образной культуры к культуре печатного слова, одним из выражений которого в религии стал выход на первый план проповеди вместо совершения таинств.
К началу XVII в. театральные постановки по стране начали прекращаться властями. Актерам даже платили за то, чтобы они ушли из города, а граждан города штрафовали, если они куда-нибудь ходили на театральные представления. Для пуритан было грехом развешивание гирлянд на майских шестах, даже охота с ястребом, травля оленей и медведей, игра в шахматы, ношение локонов. Практически единственными формами признававшегося пуританами достойного проведения досуга были занятия стрельбой из лука и упражнениями, которые развивали военные умения [10, p. 95–97, 102–109].
Основными аргументами для осуждения театра у пуритан были критика драматических постановок как лжи с особыми возражениями против трансвеститов в исполнении женских ролей мальчиками (в Ветхом Завете Второзаконие 22:5 бескомпромиссно осуждает трансвестизм); отвращение к непристойностям – к эротичности некоторых театральных сцен; обвинения в идолопоклонничестве тех, кто смотрел театральные зрелища.
Пуритане особенно осуждали пьесы на религиозные темы. Постановка пьес на библейские темы стала незаконной после издания в 1605 г. Акта о богохульстве. В 1637 г. против театров опубликовал свое сочинение «Histrio-mastix» известный пуританин Уильям Принн (1600–1669), поплатившийся за критику религиозной политики властей отрезанными ушами, но до отъезда короля Карла I Стюарта (1625–1649) из Лондона и начала гражданской войны в 1642 г. пуритане не могли закрыть театры [10, p. 112].
Примерно с 1580 г. протестанты в Англии с осуждением стали относиться также к изобразительным искусствам, подвергнув критике реалистические картины на религиозные сюжеты, а также баллады на религиозные темы. Издания Библии почти перестали сопровождать иллюстрациями, что отразилось на оформлении английских книг в целом. С 1600 г. в течение нескольких десятилетий протестантская Англия вышла на стадию, которую П. Коллинсон называет «иконофобией», когда отвергались все изображения на основе прямого следования второй библейской заповеди. Ранее, в начале XVI в. в английской культуре существовала ситуация, когда человек из социальных низов в том случае, если оказывалось, что у него в собственности есть хотя бы одна книга (фактически любого содержания), попадал под подозрение в ереси лоллардизма. К 1600 г. владелец картины (тоже практически на любую тему) мог быть заподозрен в принадлежности к католицизму. Большинство лиц даже в высших классах английского общества не имело картин и скульптур, не стало даже детских книг с картинками. Символику распятия в общественных местах заменили королевские гербы [10, p. 117–118].
Протестантская религиозность стала в конце XVI в. утверждаться и в армии, где проповеди и пение псалмов были введены ещё до Английской революции середины XVII века [10, p. 121].
На рубеже XVI–XVII вв. начал становиться заметным разрыв между народ- ными праздниками и жизнью приходской церкви. Иногда народные праздники исчезали по экономическим причинам – по мере роста цен дорожали еда и напитки, и расходы на их проведение не окупались. В XVII в. народные праздники отмирали не только по экономическим причинам, просто многим англичанам они теперь определённо не нравились. С 1580-х гг. против распространённых в народе форм проведения досуга духовенство начало кампанию, осуждая, например, игру в футбол, поскольку она нередко оборачивалась «дракой в дружеской форме». Пока спорт оставался популярным среди представителей социальных низов, более состоятельные люди, имевшие деловые интересы и собственность, которая могла пострадать от буйных форм народного отдыха, относились к этой форме проведения времени без энтузиазма и были озабочены, прежде всего, поддержанием общественного порядка [11, p. 155–157, 175–177]. Отношение состоятельных социальных групп к народной культуре всё же не было однозначно осуждающим: например, в Лидсе против запрещения праздников выступали наиболее состоятельные ремесленники и торговцы в городе, в городе Стратфорде за сохранение праздников высказывались местные джентльмены, йомены, состоятельные ремесленники [12, p. 841–842]. Как писал П. Коллинсон, рассмотрение подавления народных форм проведения досуга как проявления классовой борьбы означает признание появления ещё в начальный период раннего Нового времени пока не существовавшей реально острой степени поляризации в английской культуре – «невозможно утверждать, что выпивка в это время доставляла удовольствие только представителям социальных низов, или только дети бедняков любили предаваться шумным играм по воскресеньям» [13, p. 182].
С 1572 г. стали фиксироваться случаи, когда пуритански настроенные лица сносили майские шесты. Вообще же первый известный случай сноса майского шеста протестантами произошел в Лондоне в 1549 г. после проповеди против идолопоклонства, произнесенной у собора Св. Павла. В течение двух последующих десятилетий эти настроения стали приобретать более широкое распространение. Те, кто участвовал в народных празднествах, по мнению пуритан, нарушали четвертую и седьмую заповеди (обязательное посещение церкви по воскресеньям и запрет внебрачных связей), а то и сразу все Десять заповедей. У современников также появилось ощущение, что те, кто уделяет время участию в таких праздниках, тратит время впустую, изнуряет силы, а на те средства, которые идут на театральные представления, лучше накормить нищих. Стали даже жалеть брать хорошие деревья для использования их в качестве майских шестов, чтобы уберечь лес. Оправданием к существованию народных развлечений было то, что они поддерживали дух товарищества и добрые отношения между жителями одного поселения. К 1630-м гг. лозунг о необходимости сохранения добрососедства стал способом сплочения защитников народных традиций против давления со стороны пуритан. При этом трудности для пуритан представляло то, как быть с текстом из Книги Экклезиаста, в котором говорилось, что есть время для скорби и есть время для танца. Фактически даже и среди духовенства в Англии было немало тех, кто защищал танцы [14, p. 13–16, 24].
Заметным было влияние Реформации на семейную жизнь. Протестантизм, оставаясь патриархальным по характеру в понимании семьи, всё же углубил, как считают, эмоциональность семейных отношений. В Англии под влиянием Реформации довольно скоро неженатые духовные лица стали исключением. К концу XIX в. в английском обществе сложилось убеждение, что английский идеал семейной жизни и привязанности к дому связан с пуританскими влияниями. Л. Стоун связал протестантизм, а в равной мере и пуританизм, и англиканство, с появлением того, что он называл «строгая патриархальная нуклеарная семья» и стремлением к тому, что можно назвать браком-дружбой, поскольку такой брак поощрял стремление к домовитости, семейным домашним добродетелям, что было, возможно, самым далеко идущим последствием Реформации в Англии, но эти вопросы легче изучать на примере социальных верхов [15, p. 5; 16, p. 141].
В понимании воспитания детей в пуританизме видны некоторые жёсткие черты. В протестантской антропологии воспринятый у Августина Блаженного пессимизм преподносил детей как склонных к воздействиям дьявола. Известный пуританин Джон Робинсон (1575–1625) – духовный наставник «отцов-пилигримов», отплывших в Америку на «Мэйфлауэре» в сентябре 1620 г., полагал, что присущая детям по природе гордыня должна быть сломлена и выбита из них. Протестантские богословы обычно осуждали родителей за пренебрежение воспитанием детей. Некоторые историки считают, что суровость воспитания оказывала травмирующее влияние на ребенка. Но есть и другие мнения: пуритане, в отличие от англичан викторианской эпохи, не превращали детство в период воспитания в сентиментальных фантазиях, а стремились к их религиозному обращению, помогали формироваться детям в том, что воспитывали их морально ответственными, способными лучше приспособиться к реальному миру взрослых [17, p. 113–137]. Но есть также достаточно свидетельств, что отношения родителей и детей в Англии XVI–XVII вв. были очень тёплыми, о чём писали П. Коллинсон, Б. Ханаволт и П. Зивер [10; 18; 19].
Достижение пуританами своих целей было затруднено тем, что разделявшие их идеи лица лишь в некоторых районах Англии имели власть только на местном уровне. Даже когда пуритане после окончания военных действий в гражданской войне с 1649 г. явно получили власть в стране, они не нашли эффективного средства, чтобы навязать свою волю и манеры поведения всему населению, поскольку исчезли общая церковная дисциплина и церковные суды. Некоторые общины, в которых преобладали пуритане, в таких условиях приняли решение ограничить допуск к причастию, поскольку достойные причастия составляли меньшинство во всех общинах. Пуритане были одержимы идеей поддержания социальных контактов только в среде достойных, морально устойчивых лиц. После реставрации Стюартов в 1660 г., когда была восстановлена епископальная церковь как единственно законная, такие группы «избранных» часто были вынуждены уйти в более или менее отчужденный конформизм. Дальнейшее развитие английского протестантизма принесло такое плюралистическое разнообра- зие, которого английские протестанты не хотели и не ожидали. Его продуктами стали официальная государственная англиканская церковь, нонконформизм диссентеров (после «Славной революции» 1688 г. в следующем году для нонконформистов-диссентеров был издан Акт о веротерпимости) и английский католицизм (который был легализован в стране в 1850 году) [10, p. 154].
Таким образом, целый ряд культуротворческих практик в западноевропейских обществах раннего Нового времени испытал влияние протестантских, реформационных идей. Данное влияние в целом было благотворным по своим последствиям.
Список литературы Влияние Реформации на развитие образования, науки и культуры в Англии в раннее Новое время
- Brad G.S. The Unintended Reformation. How a Religious Revolution Secularized Society. Cambridge; London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2012. 574 p.
- Cressy D. Literacy and the Social Order: Reading and Writing in Tudor and Stuart England. Cambridge: Cambridge University Press, 1980. X, 246 p.
- Greaves R.L. Society and Religion in Elizabethan England. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1981. 925 p.
- Kearney H.F. Puritanism, Capitalism and Scientific Revolution // Past and Present. 1964. № 28. P. 81-101.
- Morgan J. Godly Learning: Puritan Attitudes towards Reason, Learning and Education, 1560-1640. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 366 p.
- Stone L. The Educational Revolution in England, 1560-1640 // Past and Present. 1964. № 28. P. 41-80.
- Watt T. Cheap Print and Popular Piety, 1550-1640. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. XIX, 369 p.
- Hill Ch. The Intellectual Origins of the English Revolution. Oxford: Clarendon Press, 1965. IX, 333 p.
- Taylor E.G.R. Mathematical Practitioners of Tudor and Stuart England. Cambridge: Cambridge University Press, 1954. 442 p.
- Collinson P. The Birthpangs of Protestant England. Religious and Cultural Change in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. New York: St. Martin's Press, 1988. XIII, 188 p.
- Clark P. English Provincial Society from the Reformation to the Revolution: Religion, Politics and Society in Kent, 1500-1640. Hassocks: Harvester Press, 1977. XIV, 504 p.
- Fripp E.I. Shakespeare, Man and Artist. Oxford: Oxford University Press, 1938. 939 p.
- Collinson P. Cranbrook and the Fletchers: Popular and Unpopular Religion in the Kentish Weald // Reformation Principle and Practice. London: Scholar Press, 1980. P. 171-202.
- Goring J. Godly Exercises or the Devil's Dance? Puritanism and Popular Culture in Pre-Civil War England. London: Dr Williams's Trust, 1983. 28 p.
- Houlbrooke R.A. The English Family 1450-1700. London: Longman, 1984. VII, 272 p.
- Stone L. The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800. London - New York: Harper & Row, 1977. 446 p.
- Sommerville J. English Puritans and Children: A Social-Cultural Explanation // Journal of Psycho-History. 1978-79. Vol. VI. P. 113-137.
- Hanawalt B.H. The Ties that Bound: Peasant Families in Medieval England. New York -Oxford: Oxford university press, 1986. XII, 346 p.
- Seaver P.S. Wallington's World: A Puritan Artisan in Seventeenth-Century London. Stanford (Calif.): Stanford University Press, 1985. XIII, 258 p.