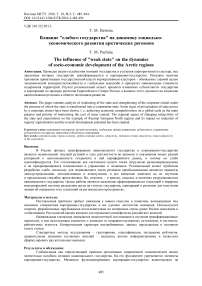Влияние "слабого государства" на динамику социально-экономического развития арктических регионов
Автор: Пачина Татьяна Максимовна
Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu
Статья в выпуске: 2 т.19, 2016 года.
Бесплатный доступ
Проведен анализ ослабления позиций государства и усиления корпоративного кластера, под давлением которых государство трансформируется в корпорацию-государство. Показано наличие признаков приватизации государственной власти корпоративным кластером - объявление главной целью экономической конкурентоспособности в глобальном масштабе и приоритет минимизации стоимости содержания территорий. Изучен региональный аспект процесса изменения субъектности государства и корпораций на примере регионов Европейского Севера России и влияние этого процесса на снижение капитализации регионов и общего потенциала развития
Корпорация-государство, регион-экономика, глобальные центры управления, субъектность, ограничение субъектности государства, транзитная субъектность корпорации
Короткий адрес: https://sciup.org/14294917
IDR: 14294917 | DOI: 10.21443/1560-9278-2016-2-485-494
Текст научной статьи Влияние "слабого государства" на динамику социально-экономического развития арктических регионов
В России процесс трансформации национального государства в корпорацию-государство является незамечаемой текущей рутиной в силу растянутости во времени и смазывания новых реалий риторикой о неполноценности созданного в ней периферийного рынка, и потому он слабо идентифицируется. Его отслеживание как системного целого также затруднено разнонаправленными и не прекращающимися изменениями в управлении и экономике. Региональный аспект проблемы разработан слабо, поскольку для подавляющего числа регионов преобладающими являются процессы деиндустриализации, десоциализации и депопуляции, и все внимание нацелено на их изучение и предложение способов приостановки. Но, отметим, – в рамках, смыслах и понятиях разрушающегося национального государства. Целью работы является наложение сформировавшихся тенденций в иерархии международной системы разделения труда на статусы государства, корпораций и регионов для получения знания об отражении этих тенденций на региональном пространстве.
Материалы и методы
Поставленная проблема требует внимания к новым смыслам и понятиям, возникающим под влиянием становления корпорации-государства, и им уделено достаточно внимания. Используются понятия, разработанные зарубежными исследователями на материалах стран, ранее России вошедших в глобализацию. Ряд понятий введен автором для отражения специфически российских явлений.
Национальная статистика оказывается недостаточной для описания и изучения трансформационных процессов, и она использована совместно с данными от неправительственных источников, в частности, рейтинговых агентств. Конкретизация характера востребованных данных представлена в основном тексте статьи.
Стандартные методы исследования – группировки, классификации, построение рейтингов, сравнительная динамика изучаемых явлений – оказались вполне информативными и позволили сформулировать ряд актуальных выводов.
Результаты и обсуждение
Глобализация как определяющий принцип организации современной экономической жизни значительно ослабила позиции национального государства. На его фундаменте укрепляются элементы корпорации-государства. Механизм функционирования корпорации-государства акцентирован на экономических приоритетах, поэтому для него естественна асоциальная политика минимизации стоимости содержания территории и ее жителей. Для реализации используются структуры государства, т. е. оно превращается в политическую оболочку для корпоративного кластера.
Трансформация национального государства в корпорацию-государство происходит путем его постепенной денационализации и приватизации [1; 2]. Она не завершена, и в настоящее время мы наблюдаем те или иные промежуточные формы корпорации-государства. Сочетание национального и корпорационного в этой модели по странам представлено в разных пропорциях. Скорость наращивания корпорационной компоненты находится в зависимости от масштабов территории, численности населения, уровня культуры, уровня развития гражданского общества, качества укорененной идеологии, уровня социально-экономического развития, уровня внешней зависимости. Однако о воспрепятствовании процессу речь не идет. Даже Германия не смогла значимо притормозить этот процесс, о чем говорят Г.-П. Мартин и Х. Шуманн в своей монографии "Западня глобализации: атака на процветание и демократию" [1], отвечая в ней на ключевой вопрос: "Кому принадлежит государство?".
Ограничения субъектности государства. С формированием с 1950-х гг. офшоров и развитием цифровых систем связи возможности государства по контролю капиталов, принимающих форму электронных сигналов, резко ослабли. Оно также перестало быть основным субъектом, определяющим интеграцию своих индустриальных комплексов в мировую систему разделения труда. Размещение производств ушло из рук государства в силу того, что: 1) массовое индустриальное производство утратило социально-политическую значимость как источник массовых рабочих мест и было переведено в регионы с дешевой рабочей силой и слабыми экологическими ограничениями; 2) управленческо-финансовая деятельность стала ключевой; 3) круг мировых субъектов, ранее представленный в основном государствами, включил в себя глобальные корпорации, в т. ч. криминальные. В итоге государство сосредоточилось на адаптации национальной воспроизводственной системы к потребностям глобальной корпоративной структуры. Целеполагание, программирование развития и управление по многим направлениям как следствия вышеописанных системных изменений переходят от государства к новым глобальным субъектам, что формирует системное ограничение субъектности государства.
Субъектность в рассматриваемом контексте будем понимать как способность к проектированию и реализации будущего, базирующуюся на достаточности ресурсов, институтов и инструментов, самостоятельности решений и активном действии.
Системное ограничение субъектности государства означает не переход в спящий режим по принципу "дремать, но знать все обо всем". Мы наблюдаем сознательный отказ государства знать все обо всем, что значимо для его выживания. Так, государственная статистика затрудняется отражать вышеописанные реалии по причине отсутствия заказа от государства на открытие корпоративной информации. В итоге методологии сбора и обработки данных не следуют за системными и структурными изменениями, и статистика не фиксирует значительный массив данных, описывающих деятельность и состояние корпораций в качестве новых субъектов, или это делается с существенными изъятиями. Изъятия из информационной базы ключевой информации делают полноценные прогнозы невозможными, формируя информационное ограничение субъектности государства.
Государство отказывается и от инструментов управления, необходимых для создания проектов будущего. Ю. Перелыгин зафиксировал это еще в далеком 2003 г.: "Федеральное правительство утратило инициативу в генерировании проектных и программных идей. Государство освоило один инструмент управления – бюджет, все остальные инструменты игнорируются" (приводится по [3]). Это сознательное инструментальное ограничение субъектности государства.
Указание на системное, информационное и инструментальное ограничения субъектности государства достаточно для понимания серьезности потерь, понесенных национальным государством.
Феномен регион-экономики. Глобальному рынку капиталов адекватны в большей степени не государства или отдельные корпорации, а с одной стороны, крупные, экономически оптимизирующиеся субъекты, представленные наднациональными структурами и имеющие преимущество эффекта масштаба (Евросоюз, НАФТА); с другой стороны, регион-экономики, выстроенные поверх официального административного деления и имеющие, благодаря меньшим размерам и заточенности на экономическую оптимальность, преимущество динамики [4].
Регион-экономика является чисто экономическим феноменом и определяется как единица спроса и потребления с численностью населения 5–20 млн человек. В итоге такой размер гарантирует выполнение регион-экономикой роли деловой единицы глобальной экономики наилучшим образом. Понятие регион-экономики ввел К. Омаэ [5], и оно имеет смысловую привязку к понятию мира-экономики Ф. Броделя и И. Валлерстайна. Регион-экономика выступает как форма территориальной привязки группы корпораций. На его территории, связанной всей необходимой инфраструктурой, оперируют корпорации, совокупная деятельность которых формирует глобальные центры управления, перемещающие потоки информации, финансов, товаров, технологий, людей. Сегодня позиция субъекта
(государства в целом или его части в виде регионов) в глобальной иерархии определяется не размером территории, объемом производимого продукта и располагаемых ресурсов, а способностью создать глобальные центры управления [6] и использовать их в распределении мировой добавленной стоимости.
Регион-экономика развернут в сторону аналогичных глобальных регион-экономик, т. е. на первый план в организации потоков капитала, информации, ресурсов и людей вышли глобальный и новый региональный уровни, в то время как государственная ответственность за связанность территории и равномерность развития регионов отошли на последний план. Если первым актом девальвации национального государства при подъеме корпораций стало превращение его в политическую оболочку корпоративного кластера, то вторым актом стала концентрация корпоративного капитала в глобальных центрах управления с формированием вокруг них управляемых корпорациями регион-экономик.
Транзитная субъектность корпорации. По данным Рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА"), Россия в системе международного разделения труда представлена единственным полностью оформленным глобальным центром управления (табл. 1) – г. Москва (8,2 % суммарного объема реализации рейтинга – 157 корпораций 1 вместе с Московской областью). В ней сосредоточены центры управления крупнейшими сырьевыми корпорациями-экспортерами, производственные мощности которых находятся в удаленных регионах.
Частичной состоятельностью глобальных центров управления обладают еще 3–4 региона, вокруг которых происходит сборка регион-экономик (табл. 1): г. Санкт-Петербург с Ленинградской областью (1,4 % объема реализации – 24 корпорации), Республика Татарстан (1,0 % – 13), агломерация юга России на базе Краснодарского края и Ростовской области (1,0 % – 21). Эти территории имеют потенциалы для создания регион-экономик.
Основная масса регионов имеет на своих территориях от 1 до 11 корпораций-резидентов, чья доля в суммарном объеме реализации рейтинга не превышает 0,5 %. Из 4 районов Европейского Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее – регионы Европейского Севера – регионы ЕС) – Архангельской области, Мурманской области, Республики Карелия и Республики Коми – в рейтинге представлены (в таблице выделены курсивом) только Архангельская область (0,2 % – 3) и Республика Коми 0,1 % – 2). Крупнейшие корпорации, оперирующие в этих регионах, являются межрегиональными с 82,1 % в суммарном объеме реализации рейтинга (табл. 1). Здесь мы наблюдаем явление, которое назовем транзитной субъектностью корпорации.
Транзитную субъектность корпорации будем понимать как ограниченную/урезанную субъектность, которую сознательно и рационально принимает на себя корпорация в отношении ответственности за настоящее и будущее территории, являющейся для нее источником ресурсов и продуктов для глобальных обменов. Корпорация с транзитной субъектностью использует ресурсы территории, не задерживаясь на ней дольше необходимого и в смысле физического присутствия, и в смысле контактов с ней.
Отказ от ответственности за будущее территории, на которой оперирует корпорация, хорошо согласовывается с принципом минимизации издержек. Корпорация как транзитный субъект становится дистанционным субъектом для территории, недосягаемым для быстрой и эффективной обратной связи не только в силу разделяющего их расстояния, измеряемого часто тысячами километров, но и в силу ориентации корпорации на кратко- и среднесрочные проекты эксплуатации территории по истощающему варианту. В предельном варианте складываются ситуации, когда: 1) корпорация как транзитный субъект влияет на объект-территорию, но объект не влияет на корпорацию; 2) отсутствует контроль над изъятием корпорацией общественного продукта и, соответственно, отсутствует ответственность за последствия использования ею ресурсов территории.
Капитализация как механизм включения/выключения регионов из глобальных обменов. Содержательно глобализация представляет собой процесс резкой дифференциации территорий и ее жителей по критерию пригодности для международного разделения труда. Появляются включенные в глобальные обмены территории и территории, выключенные из них. Субъектами включения/ выключения являются кластеры корпораций, оперирующие на территориях, и корпорация-государство.
Ключевым понятием при оценке уровня развития региона стала его капитализация, предполагающая сведение его ценности к приросту стоимости активов, находящихся на территории. Высокая капитализация региона притягивает капитал, лучших специалистов, иные мобильные ресурсы. Низкая капитализация региона выталкивает капитал и высококвалифицированных специалистов, но привлекательна для размещения на ней производств, позволяющих значительно минимизировать издержки. Налицо возникновение двух векторов глобализации, действующих в противоположных направлениях. Двойственность капитализации в общем виде была сформулирована С. Градировским следующим образом: "Все формы капитала, включая человеческий и социальный, перемещаются в области с наибольшей капитализацией; все формы деятельности перемещаются в области с наименьшей капитализацией" (приводится по: [7]).
Региональная структура рейтинга RAEX-600 в 2014 г. 2
Таблица 1
|
Регион |
Количество компаний |
Доля в суммарном объеме реализации рейтинга (%) |
Объем реализации в 2014 г. (млн руб.) |
|
Межрегиональные компании |
276 |
82,1 |
49 263 487,7 |
|
Москва |
139 |
7,4 |
4 411 061,2 |
|
Санкт-Петербург |
20 |
1,2 |
713 747,1 |
|
Московская область |
18 |
0,8 |
506 291,2 |
|
Республика Татарстан |
13 |
1,0 |
596 575,4 |
|
Краснодарский край |
13 |
0,7 |
405 332,8 |
|
Кемеровская область |
11 |
0,5 |
297 988,6 |
|
Свердловская область |
9 |
0,5 |
273 385,8 |
|
Самарская область |
9 |
0,4 |
232 666,0 |
|
Ростовская область |
8 |
0,3 |
200 497,8 |
|
Челябинская область |
6 |
0,9 |
538 851,6 |
|
Белгородская область |
6 |
0,2 |
141 196,7 |
|
Тюменская область |
5 |
0,3 |
206 454,4 |
|
Красноярский край |
5 |
0,3 |
159 855,5 |
|
Иркутская область |
4 |
0,4 |
238 104,9 |
|
Республика Башкортостан |
4 |
0,3 |
151 169,2 |
|
Ленинградская область |
4 |
0,2 |
100 136,7 |
|
Калининградская область |
3 |
0,4 |
224 598,1 |
|
Калужская область |
3 |
0,2 |
120 439,0 |
|
Архангельская область |
3 |
0,2 |
109 507,5 |
|
Нижегородская область |
3 |
0,2 |
91 770,5 |
|
Приморский край |
3 |
0,1 |
77 304,7 |
|
Новосибирская область |
3 |
0,1 |
72 920,5 |
|
Пермский край |
3 |
0,1 |
71 357,2 |
|
Ямало-Ненецкий авт. округ |
3 |
0,1 |
70 600,4 |
|
Хабаровский край |
3 |
0,1 |
66 543,4 |
|
Республика Коми |
2 |
0,1 |
67 801,2 |
|
Удмуртская Республика |
2 |
0,1 |
46 841,7 |
|
Омская область |
2 |
0,1 |
41 436,0 |
|
Волгоградская область |
2 |
0,1 |
36 249,8 |
|
Томская область |
1 |
0,2 |
120 914,2 |
|
Тульская область |
1 |
0,1 |
42 109,0 |
|
Чукотский автономный округ |
1 |
0,1 |
37 303,8 |
|
Курская область |
1 |
0,1 |
33 547,3 |
|
Воронежская область |
1 |
0,1 |
28 157,9 |
|
Амурская область |
1 |
0,0 |
20 480,6 |
|
Ставропольский край |
1 |
0,0 |
18 758,0 |
|
Сахалинская область |
1 |
0,0 |
18 235,1 |
|
Смоленская область |
1 |
0,0 |
17 824,6 |
|
Владимирская область |
1 |
0,0 |
17 756,0 |
|
Липецкая область |
1 |
0,0 |
16 277,3 |
|
Республика Марий Эл |
1 |
0,0 |
16 221,3 |
|
Ханты-Мансийский авт. округ |
1 |
0,0 |
16 190,4 |
|
Алтайский край |
1 |
0,0 |
15 679,9 |
|
Тверская область |
1 |
0,0 |
15 517,5 |
2 Региональная структура рейтинга RAEX-600 в 2014 году [Электронный ресурс] / Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА"). URL:
Отмеченная разновекторность в движении капитала и перемещении производительной деятельности хорошо объясняет перемещение корпоративных центров управления 46 % корпораций страны в межрегиональную группу (276 из 600, табл. 1).
Пространственный разрыв между центрами управления и производственными мощностями предопределен экономически: чем ниже капитализация производительной территории, тем выше капитализация территории концентрации управления. Пространственный разрыв желателен, т. к. трудно долго удерживать барьер между богатством и бедностью на одной или рядом расположенных территориях. Северные территории в этом смысле хорошо подходят для экономической автаркии.
Обратим внимание на то, каким образом ограниченная субъектность государства оказывает влияние на капитализацию регионов.
Признаком приватизации государственной власти (т. е. права на политическое, идеологическое, культурное, экономическое и иные виды контроля и насилия) корпоративным кластером становится объявление главной целью государства его экономической конкурентоспособности в глобальном масштабе. По этой причине основным экономическим приоритетом корпорации-государства является снижение издержек на содержание территории, на которой оно расположено – от доведения до минимума социальных обязательств, доставшихся от национального государства, и жесткого контроля понижательной динамики уровня жизни населения до избавления от экономически нерентабельной части населения при помощи шоковых реформ, поощрения наркомании, алкоголизма, опускания на социальное дно, уничтожения в военных операциях. На это нацелена также оптимизация образования, здравоохранения, науки, культуры, что в результате приводит к сокращению сети бюджетных организаций, увольнениям и делает недоступными их услуги в сельской местности и небольших городах.
Подтвердим статистикой. Итоги проверки Счетной палатой РФ серии мероприятий по оптимизации государственных и муниципальных организаций в регионах в 2013–2014 гг. подтвердили их нацеленность на чисто экономические эффекты: "Несмотря на то, что "оптимизация" предполагает действия, при которых достигается наилучшее состояние системы в целом, комплекс проведенных мероприятий в основном ограничен только мерами по сокращению объектов, их реорганизации или сокращению численности работников, что в итоге привело к снижению доступности услуг и ухудшению результатов деятельности государственных и муниципальных организаций, в первую очередь проявляющихся ухудшением качества образования, ростом на 3,7 % числа умерших в стационарах, увеличением на 2,6 % внутрибольничной летальности больных, ухудшением качества жизни населения" [8]. В регионах ЕС оптимизация сети привела к ее сжатию до 46,0–77,6 % от уровня 2000 г. по числу больничных организаций и до 48,9–76,4 % – по числу фельдшерско-акушерских пунктов (табл. 2, 3).
Таблица 2
Число больничных организаций в регионах ЕС в 2000–2013 гг. (на конец года; единиц) 3
|
Регионы |
2000 |
2005 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
1 408 |
1 219 |
786 |
733 |
712 |
703 |
700 |
688 |
622 |
|
2013 в % к 2000 |
44,2 |
||||||||
|
Республика Карелия |
76 |
65 |
38 |
37 |
36 |
35 |
35 |
36 |
35 |
|
2013 в % к 2000 |
46,0 |
||||||||
|
Республика Коми |
115 |
98 |
70 |
65 |
63 |
60 |
71 |
71 |
67 |
|
2013 в % к 2000 |
58,3 |
||||||||
|
Архангельская область |
140 |
98 |
92 |
88 |
83 |
80 |
71 |
70 |
71 |
|
2013 в % к 2000 |
50,7 |
||||||||
|
Мурманская область |
49 |
45 |
43 |
40 |
48 |
43 |
42 |
40 |
38 |
|
2013 в % к 2000 |
77,6 |
Таблица 3
Число фельдшерско-акушерских пунктов в регионах ЕС в 2000–2013 гг. (на конец года; единиц)
|
Регионы |
2000 |
2005 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
2 918 |
2 705 |
2 563 |
2 499 |
2 490 |
2 246 |
2 145 |
2 113 |
2 062 |
|
2013 в % к 2000 |
70,7 |
3 Экономические и социальные показатели районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в 2000–2014 годах [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: Данные этого источника приведены в таблицах 3, 5–10.
|
Республика Карелия |
230 |
207 |
198 |
156 |
148 |
144 |
143 |
139 |
127 |
|
2013 в % к 2000 |
55,2 |
||||||||
|
Республика Коми |
407 |
381 |
373 |
354 |
346 |
333 |
324 |
314 |
311 |
|
2013 в % к 2000 |
76,4 |
||||||||
|
Архангельская область |
626 |
594 |
554 |
519 |
505 |
496 |
484 |
472 |
473 |
|
2013 в % к 2000 |
75,6 |
||||||||
|
Мурманская область |
45 |
35 |
29 |
30 |
29 |
25 |
23 |
25 |
22 |
|
2013 в % к 2000 |
48,9 |
Действия обоих субъектов – корпорации-государства и корпораций – на механизм включения/ выключения регионов из глобальных обменов концентрируются в итоговых показателях инвестиционных рейтингов регионов. Рассмотрим динамику процесса выключения северных территорий по данным Рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА").
Инвестиционные рейтинги регионов Европейского Севера показывают (табл. 4), что за 18 лет повысилась инвестиционная привлекательность только Республики Коми. По ней был снижен показатель риска – с высокого до умеренного.
Таблица 4
Инвестиционные рейтинги RAEX 4 регионов ЕС в 1996–2014 гг. 5
|
Дата присвоения рейтинга |
Архангельская область |
Мурманская область |
Республика Карелия |
Республика Коми |
|
11.12.2014 |
3В1 |
3В1 |
3С1 |
3В1 |
|
13.12.2013 |
3В1 |
3В1 |
3В1 |
3В1 |
|
13.12.2012 |
3В1 |
3С1 |
3В1 |
3В1 |
|
16.12.2011 |
3В1 |
3С1 |
3С1 |
3В1 |
|
20.12.2010 |
3В1 |
3В1 |
3В2 |
3В1 |
|
17.12.2009 |
3В1 |
3В1 |
3В2 |
3В1 |
|
15.12.2008 |
3В1 |
3В1 |
3В2 |
3В1 |
|
18.12.2007 |
3В1 |
3С1 |
3С2 |
3В1 |
|
26.11.2006 |
3В1 |
3В1 |
3С2 |
3В1 |
|
21.11.2005 |
3В1 |
3В1 |
3В2 |
3С1 |
|
29.11.2004 |
3В1 |
3В1 |
3В2 |
3С1 |
|
17.11.2003 |
3В1 |
3В1 |
3В2 |
3С1 |
|
02.12.2002 |
3В1 |
3В1 |
3В2 |
3С1 |
|
05.11.2001 |
3В1 |
3В1 |
3В2 |
3В1 |
|
30.10.2000 |
3В1 |
3В1 |
3В2 |
3С1 |
|
18.10.1999 |
3В1 |
3В1 |
3В2 |
3В1 |
|
19.10.1998 |
3В1 |
3В1 |
3В2 |
3В1 |
|
10.10.1997 |
2В |
1А |
2В |
3С1 |
|
10.10.1996 |
2В |
1В |
2В |
3С1 |
По Архангельской и Мурманской областям и Республике Карелия в течение двух лет (1996–1997 гг.) были обрушены показатели потенциалов. При этом Мурманская область переместилась сразу на две позиции вниз – от высокого потенциала к пониженному. Полагаем, что именно транзитная субъектность корпораций претендует быть определяющим фактором снижения инвестиционной привлекательности этих регионов.
Действие фактора транзитной субъектности корпораций, проявляющегося через ответственность за последствия использования ресурсов регионов ЕС и тем снижающего их капитализацию, проанализируем на основе сравнения динамики выбросов веществ, загрязняющих атмосферу (табл. 5), и заболеваемости населения (табл. 6–10).
Таблица 5
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, в регионах ЕС, в 2005–2013 гг. (тыс. т)
|
Регионы |
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ |
|||||||
|
2005 |
2006 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 6 |
2013 |
|
|
Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
8 484 |
8 334 |
7 801 |
7 630 |
5 655 |
7 724 |
7 878 |
7 161 |
|
2013 в % к 2005 |
84,4 |
|||||||
|
Республика Карелия |
129,2 |
123,7 |
119,9 |
105,5 |
107,9 |
96,0 |
106,6 |
118,5 |
|
2013 в % к 2005 |
91.7 |
|||||||
|
Республика Коми |
670,5 |
670,1 |
618,2 |
598,3 |
594,8 |
712,4 |
688,2 |
774,3 |
|
2013 в % к 2005 |
115,5 |
|||||||
|
Архангельская область |
314,5 |
334,7 |
396,0 |
425,9 |
545,3 |
373,0 |
270,6 |
245,4 |
|
2013 в % к 2005 |
78,0 |
|||||||
|
Мурманская область |
301,1 |
292,6 |
276,2 |
280,6 |
287,6 |
263,1 |
258,8 |
269,8 |
|
2013 в % к 2005 |
89.6 |
|||||||
Как видим, выбросы загрязняющих веществ за 9 лет наблюдений (табл. 5) снизились в трех регионах ЕС, но в меньшей степени, чем в целом по регионам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. В одном регионе – Республике Коми – выбросы в 2013 г. по сравнению с 2005 г. выросли на 15,5 %.
На фоне снижения выбросов загрязняющих атмосферу веществ в Республике Карелия на 8,3 % за 2005–2013 гг. и их общем меньшем количестве по сравнению с другими рассматриваемыми регионами (табл. 5) мы наблюдаем в ней рост числа пациентов с новообразованиями на 37 %, болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – на 18,9 %, болезнями системы кровообращения – на 41,1 %, врожденными аномалиями, деформациями и хромосомными нарушениями – на 77,8 % (табл. 6–10). Общее накопленное загрязнение, перешедшее критическую черту, сохраняет тенденцию к росту у населения заболеваемости.
Заболеваемость новообразованиями на 1 000 человек населения в регионах ЕС (зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни)
Таблица 6
|
Регионы |
2005 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
10,0 |
10,4 |
10,7 |
11,2 |
11,6 |
12,3 |
12,6 |
13,1 |
|
2013 в % к 2005 |
131,0 |
|||||||
|
Республика Карелия |
11,9 |
12,3 |
13,1 |
12,8 |
14,1 |
14,2 |
16,1 |
16,3 |
|
2013 в % к 2005 |
137,0 |
|||||||
|
Республика Коми |
8,9 |
9,4 |
9,8 |
10,5 |
11,4 |
12,3 |
12,2 |
12,8 |
|
2013 в % к 2005 |
140,4 |
|||||||
|
Архангельская область |
9,6 |
10,3 |
10,6 |
12,0 |
13,1 |
12,9 |
12,8 |
12,0 |
|
2013 в % к 2005 |
125,0 |
|||||||
|
Мурманская область |
11,0 |
12,9 |
13,3 |
13,3 |
13,9 |
14,5 |
14,5 |
16,1 |
|
2013 в % к 2005 |
146,4 |
Таблица 7
Заболеваемость болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушения обмена веществ на 1 000 человек населения в регионах ЕС (зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни)
|
Регионы |
2005 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
10,8 |
13,5 |
13,3 |
12,6 |
12,5 |
12,8 |
14,0 |
14,2 |
|
2013 в % к 2005 |
131,5 |
|||||||
|
Республика Карелия |
14,3 |
14,8 |
13,3 |
12,3 |
14,1 |
15,9 |
17,6 |
17,0 |
|
2013 в % к 2005 |
118,9 |
|||||||
|
Республика Коми |
8,1 |
13,6 |
14,0 |
12,6 |
12,5 |
14,2 |
14,4 |
13,5 |
|
2013 в % к 2005 |
166.7 |
|||||||
|
Архангельская область |
9,3 |
14,0 |
14,0 |
13,0 |
13,7 |
13,3 |
14,0 |
12,3 |
|
2013 в % к 2005 |
132,2 |
|||||||
|
Мурманская область |
11,6 |
16,3 |
16,5 |
15,3 |
15,2 |
13,9 |
14,6 |
15,3 |
|
2013 в % к 2005 |
131,9 |
Таблица 8
Заболеваемость болезнями крови, кроветворных органов и нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, на 1 000 человек населения в регионах ЕС (зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни)
|
Регионы |
2005 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
4,7 |
5,0 |
4,8 |
4,8 |
5,0 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
|
2013 в % к 2005 |
102,1 |
|||||||
|
Республика Карелия |
4,5 |
4,3 |
4,2 |
4,0 |
4,3 |
3,9 |
3,9 |
4,0 |
|
2013 в % к 2005 |
88,9 |
|||||||
|
Республика Коми |
4,9 |
5,7 |
5,5 |
5,5 |
6,4 |
5,9 |
6,2 |
6,3 |
|
2013 в % к 2005 |
128,6 |
|||||||
|
Архангельская область |
6,0 |
5,8 |
6,0 |
5,6 |
5,8 |
5,4 |
5,4 |
4,8 |
|
2013 в % к 2005 |
80,0 |
|||||||
|
Мурманская область |
3,0 |
3,1 |
3,4 |
3,3 |
3,3 |
3,2 |
3,1 |
3,0 |
|
2013 в % к 2005 |
100,0 |
Таблица 9
Заболеваемость болезнями системы кровообращения на 1 000 человек населения в регионах ЕС (зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни)
|
Регионы |
2005 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
21,4 |
23,5 |
23,8 |
24,9 |
26,1 |
26,6 |
26,6 |
28,6 |
|
2013 в % к 2005 |
133,6 |
|||||||
|
Республика Карелия |
25,3 |
25,7 |
26,1 |
26,1 |
30,2 |
28,8 |
28,5 |
35,7 |
|
2013 в % к 2005 |
141,1 |
|||||||
|
Республика Коми |
15,7 |
17,2 |
17,3 |
18,4 |
21,8 |
23,6 |
22,3 |
20,6 |
|
2013 в % к 2005 |
131,2 |
|||||||
|
Архангельская область |
24,1 |
24,1 |
25,5 |
28,7 |
32,0 |
33,7 |
31,0 |
27,4 |
|
2013 в % к 2005 |
113,7 |
|||||||
|
Мурманская область |
14,7 |
19,1 |
17,8 |
19,8 |
22,9 |
20,6 |
20,6 |
27,0 |
|
2013 в % к 2005 |
183,7 |
Таблица 10
Заболеваемость врожденными аномалиями, деформациями и хромосомными нарушениями на 1 000 человек населения в регионах ЕС (зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни)
|
Регионы |
2005 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
2,2 |
2,5 |
2,6 |
2,4 |
2,6 |
2,5 |
2,6 |
2,6 |
|
2013 в % к 2005 |
118,2 |
|||||||
|
Республика Карелия |
2,7 |
3,2 |
3,8 |
3,7 |
4,0 |
3,7 |
3,8 |
4,8 |
|
2013 в % к 2005 |
177,8 |
|||||||
|
Республика Коми |
2,1 |
2,6 |
2,7 |
2,7 |
3,0 |
2,9 |
2,9 |
2,8 |
|
2013 в % к 2005 |
133,3 |
|||||||
|
Архангельская область |
3,8 |
5,2 |
6,0 |
5,4 |
5,3 |
5,1 |
5,1 |
4,5 |
|
2013 в % к 2005 |
118,4 |
|||||||
|
Мурманская область |
0,9 |
0,9 |
1,0 |
0,8 |
0,9 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
2013 в % к 2005 |
77,8 |
Уровень выбросов в Республике Коми, по сравнению с Республикой Карелия (2013 г.), выше в 6,5 раз, в Архангельской области – в 2,1 раза, в Мурманской области – в 2,3 раза (табл. 5). В трех последних регионах серьезно увеличилось число пациентов с новообразованиями (на 25,0–46,4 %), болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушения обмена веществ (на 31,9–66,7 %), болезнями системы кровообращения (на 13,7–83,7 %), врожденными аномалиями, деформациями и хромосомными нарушениями (на 18,4–33,3 %) (табл. 6–10).
Вместе с тем следует отметить, что снижение выбросов в Архангельской и Мурманской областях не привело к снижению уровня заболеваемости (табл. 6–10), поскольку сохранялись высокие базовые уровни выбрасываемых в атмосферу веществ (табл. 5).
Заключение
Загрязнение территории прямым образом влияет на ее инвестиционную привлекательность и способ использования. Здесь значимыми являются два фактора – состояние территории и свобода действий населения.
Строительство чистых производств требует дополнительных инвестиций для очистки территории. В случае отсутствия таких инвестиций продолжение ее использования под грязные производства предопределено, и недокапитализация территории будет сложившейся характеристикой воспроизводственных процессов на ней.
Низкие доходы и низкие показатели здоровья населения недокапитализированной территории значительно снижают его мобильность, создавая ловушку бедности-нездоровья. Население, попавшее в эту ловушку, вынуждено оставаться на территории и соглашаться на низкую оплату труда, закрепляя согласием воспроизводство недокапитализированного труда.
Разрывают круг недокапитализации такого типа два исхода: население вымирает при сохранении подобной социально-экономической политики государства или население сохраняется, если оно становится целью проектов развития. Первая ситуация катастрофична и реальна, вторая при существующей политике фантастична.
Регионы, не втянутые в орбиту глобальных центров управления регион-экономик, имеют несколько вариантов будущего, которые изначально предопределены при невмешательстве государства. Они видятся следующими:
-
– 1 вариант – движение к созданию новых регион-экономик с собственными центрами управления или вхождение в орбиту влияния существующих центров управления на смежных территориях;
-
– 2 вариант – консервация статуса административного региона с финансовой подпиткой из федерального бюджета с мягким дрейфом к деградации;
-
– 3 вариант – ускоренный дрейф к деградации.
Наличие лишь нескольких островков формирующихся регион-экономик по сути означает ситуацию заданности дрейфа всей огромной территории страны к деградации.
Мы видим подтверждение глобальной логики течения процессов дифференциации территорий и людей. Оптимизация, в конечном итоге, есть дифференциация или по критерию максимизации экономических эффектов, или по критерию минимизации издержек.
Оптимизация регионов Европейского Севера, проводимая государством и корпорациями, определенно направлена на снижение их капитализации. Она закрепляет привлекательность данных регионов для тех видов производственной деятельности, в которых возможна экономия на издержках без существенных последствий для требуемого качества производимого продукта и одновременно закрепляет их непривлекательность в качестве базы для формирования 1–2 регион-экономик и мест дислокации глобальных центров управления. Такое будущее регионов ЕС жестко задается властью более двух десятилетий.
Список литературы Влияние "слабого государства" на динамику социально-экономического развития арктических регионов
- Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации: атака на процветание и демократию. М.: Альпина, 2001. 335 с.
- Фурсов А. И. Россия выбирает между государством-нацией и государством-корпорацией //Антиглобализм. URL: http://anti-glob.ru/old/st/afurs.htm.
- Власенко Т. Новый передел //Правда On-line. 20.11.2003. URL: http://eup.ru/Documents/2003-11-24/2766A.asp.
- Фурсов А. И. Корпорация-государство: доклад на заседании клуба "Красная площадь" //Интелрос. URL: http://www.intelros.ru/engine/print.php?newsid=124&news_page=1.
- Ohmae K. The end of nation-state: The rise of regional economies. London, 1995. 224 p. //EBOOKEE. URL: http://www.ebookee.net/The-End-of-the-Nation-State-The-Rise-of-Regional-Economics_802547.html.
- Княгинин В. Капитализация регионов //Русский архипелаг. URL: http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/rus-regions/kap2004/.
- Переслегин С. Капитализация будущего //Электронная библиотека PROFILIB. URL: http://profilib.com/chtenie/34237/sergey-pereslegin-stati-2-lib-11.php.
- Фадеичев С., Бобылев С., Павлова С., Машатин В. Счетная палата проверила оптимизацию в сфере здравоохранения, культуры, образования и социального обслуживания. 13.04.2015 //Сайт Счетной палаты Российской Федерации. URL: http://www.ach.gov.ru/press_center/news/21297.