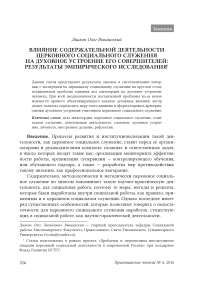Влияние содержательной деятельности церковного социального служения на духовное устроение его совершителей: результаты эмпирического исследования
Автор: Вышинский Олег Леонидович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 6 (71), 2016 года.
Бесплатный доступ
Данная статья представляет результаты анализа и систематизации интер- вью с экспертами по церковному социальному служению на круглом столе, посвященном проблеме влияния дел милосердия на духовное устроение человека. При всей неоднозначности поставленной проблемы из-за невоз- можности прямого объективирующего анализа духовных явлений, автор делает попытку определить меру этого влияния и сформулировать критерии оценки духовного устроения участников церковного социального служения
Дела милосердия, церковное социальное служение, социальное служение, помогающая деятельность, спасение, духовное устрое- ние, личность, внутреннее делание, рефлексия
Короткий адрес: https://sciup.org/140190240
IDR: 140190240
Текст научной статьи Влияние содержательной деятельности церковного социального служения на духовное устроение его совершителей: результаты эмпирического исследования
введение. Процессы развития и институционализации такой деятельности, как церковное социальное служение, ставят перед её организаторами и руководителями комплекс сложных и ответственных задач, в число которых входят такие как: организация мониторинга эффективности работы, организация супервизии — контролирующего обучения, или обучающего надзора, а также — разработка мер противодействия такому явлению, как профессиональное выгорание.
Содержательно, методологически и методически церковное социальное служение во многом напоминает такую научно-практическую деятельность, как социальная работа, поэтому те меры, методы и рецепты, которые были выработаны внутри социальной работы, как правило, применимы и в церковном социальном служении. Однако последнее имеет ряд существенных особенностей, которые позволяют говорить о недостаточности для церковного социального служения наработок, существующих в социальной работе, как научно-практической деятельности.
Существенно интересующей нас особенностью церковного социального служения являются особенности целеполагания этой деятельности в сравнении с целями и задачами светской социальной работы. Церковное социальное служение не имеет своей собственной цели, оно по своей сути инструментально, т. е. подчинено стратегическим задачам деятельности Церкви. Достижение улучшения качества жизни благополучателя, что является приоритетной задачей в светской социальной работе, в церковном социальном служении является не единственным и не безусловным позитивным ожидаемым результатом. Оно может быть таковым лишь при соблюдении следующего условия: достижение или сохранение духовно-нравственной пользы как для благополучателей, так и для самих совершителей данного служения. Об этом говорили и писали многие иерархи и богословы.
Пишет диакон Павел Сержантов, ссылаясь на Авву Дорофея: «Мы привыкли все свое внимание сосредотачивать на делах, точнее на деятельности человека, на ощутимом результате нашей деятельности. Конец — делу венец. Такой подход оправдан часто, но не всегда. Вот что пишет о духовной жизни авва Дорофей: “Всякое дело. есть осьмая часть искомого; а сохранить свое устроение, если и случится от этого не исполнить дела, есть три осьмых с половиною”. Не будем входить в детали, что именно в позднеантичном быту времен аввы Дорофея означало «три осьмых с половиною» 2 . Сосредоточимся на другом. Сохранить свое устроение в 3,5 раза важнее, чем довести дело до конца! Невыгодно “терять три осьмых с половиною для того, чтобы сохранить одну осьмую”. Вот какой практический вывод. Невыгодно доводить дело до конца ценой утраты устроения. Как это? Например, я намерен построить дом — и упорно довожу дело до финала. Однако в ходе строительных работ я перессорился со всей родней и своим лучшим другом. В созданный ценой больших усилий дом близкие люди не хотят ко мне приходить. Я на них смертельно обижен. Это значит, что мое внутреннее устроение поменялось, оно пронизано злопамятством и гневом на родных». 3
В качестве примера из истории можно привести, цитату из «Особого мнения», епископа Гермогена (Долганова), члена Святейшего Синода 1903–1912 гг., священномученика. Вопрос, который тогда обсуждался в Синоде, касался инициативы Великой Княгини Елисаветы Фёдоровны восстановления в Церкви чина диаконисс. В частности, Великой Княгиней предлагалось ввести чин диаконисс «по одеянию» — это был некий шаг в сторону институциализации церковного социального служения. Епископ Гермоген — один из двух членов Синода, которые выступили против. Его аргументы были следующие: «От “диаконисс по одеянию” требуется лишь внешняя сторона служения: благотворение, врачевание, просвещение — при отсутствии духовно-нравственных или аскетических обетов внутренней непререкаемой дисциплины, вследствие чего “посвященная Богу часть души и жизнь должна висеть над бездной страстей и предоставлена быть неверным стихиям”»4.
В качестве примеров из современной нам церковной жизни можно привести следующие суждения. Профессор МДАиС А. И. Осипов в своей книге «Путь разума в поисках Истины» пишет о церковном социальном служении: «Церковная социальная деятельность может только в том случае быть служением Церкви (а не мiрской деятельностью) и принести духовное благо людям, когда она будет основана на искреннем стремлении ее служителей исполнить главную заповедь Евангелия и тем самым проповедовать имя Христово. Ибо апостол Павел писал: “Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы” (1 Кор 13:3). Для Церкви нет других причин социальной активности, кроме проповеди христианской любви и обращения на путь спасения каждого человека через научение его и словом, и примером жизни своих чад» 5.
Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, выступая в 2014 г. в Милане на конференции «Между верой и разумом: социальная доктрина Церкви и ее вселенское значение», сказал: «Нужно жить не для того, чтобы сделать много дел, создать богадельню, службу помощи бездомным, больницу, накормить всех голодных, а для того, чтобы спасти свою душу. А душа спасается исполнением двух главных заповедей: любви к Богу и любви к ближнему» 6 .
Поскольку достижение духовно-нравственной пользы совершителями служения и благополучателями является как условием, так и критерием состоятельности этой деятельности, на её организаторов и руководителей ложатся непростые обязанности. Им необходимо контролировать деятельность совершителей этого служения на предмет соответствия содержательной части этой деятельности означенному условию-критерию. А для контроля над другими руководителю также необходимо понимать актуальность проблемы собственного духовного устроения.
Однако понятие духовно-нравственной пользы на настоящий момент является категорией скорее субъективной, и разработанные методы объективного или даже квази-объективного контроля над получением или сохранением духовно-нравственной пользы участниками (как совершителями, так и благополучателями) на настоящий момент обнаружить не удалось. А кроме этого, необходимо помнить о том, что с позиций святоотеческой аскетики, оценка духовного преуспеяния — меры духовно-нравственной пользы — (как собственной, так и чужой) — дело всегда чрезвычайно рискованное.
Как писал свт. Феофан Затворник, «Не следует слишком заниматься собою. Отцы святые говорят: “Не меряй себя!.. Лучшая мера: “Ничего нет”.” Господи, даждь положити начало благое!.. Господи, имиже веси судьбами спаси мя!.. И мысль всякую гоните о мерении себя, а, задняя забывая, совсем как бы его не было, — в передняя простирайтесь. Враг наводит на то, чтоб мерять себя, чтобы самомнение возбудить и испортить все дело. Всегда говорите себе: “Ничего нет, нечего мерять”» 7 .
Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать следующую проблему. Проблема, видимо, состоит в том, что характерной чертой церковного социального служения является ориентация этой практической деятельности, в т. ч. на достижение духовно-нравственной пользы, при невыясненной возможности контроля достижения данного результата. Поэтому актуальным представляется вопрос: как выяснить, насколько церковное социальное служение способствует главной цели христианской жизни — получению или сохранению духовно-нравственной пользы самих совершителей этого служения? Как организовать наблюдение и исследование данного влияния?
Также открытым остаётся вопрос, каким образом содержательная часть церковного социального служения может влиять на изменение духовного устроения совершителей этого служения? Не поняв логики этого влияния, невозможно разработать меры по улучшению этого влияния или устранению помех таковому.
Однако логика этого влияния с точки зрения святоотеческой аске-тики также труднодоступна однозначному рациональному объяснению. Авва Дорофей, говоря о стяжании некоторых христианских добродетелей, многократно подчёркивает непостижимость путей их приобретения: «.Когда кто хорошо обучится искусству и занимается им, то, по мере упражнения в оном.приобретает некоторый навык, а сказать не может и не умеет объяснить, как он стал опытен в деле; душа приобрела навык.постепенно и нечувствительно, через упражнение в искусстве. Так и в смирении: от исполнения заповедей бывает некоторая привычка к смирению, и нельзя это выразить словом. самое же смирение Божественно и непостижимо» 8 . «. говорят, что один брат спросил некоторого старца: “Что мне делать отче, для того, чтобы бояться Бога?” Старец отвечал ему: “Иди, живи с человеком, боящимся Бога, и тем самым, что он боится Бога, научит и тебя бояться Бога”» 9 .
основные теоретические предпосылки. Отправным термином для наших рассуждений является понятие «духовное устроение» христианина. С точки зрения диакона Павла Сержантова, этот термин «ме-диапассивен»10: он отражает с одной стороны — внутренний строй духовной жизни на определённый момент — т. е. статику, а с другой стороны — процесс «обустраивания» — т. е. некую динамику. Однако, поскольку христианские писатели-аскеты говорят о типах духовного устроения, как разновидностях некоего состояния, и мы намерены говорить о «динамике духовного устроения», условно примем этот термин за синоним слова «состояние», т. е. некоторую статическую характеристику.
Динамику духовного устроения можно рассматривать в разных системах координат. Одной из таких систем координат можно считать типологию духовного устроения, данную древней аскетической традицией «раб–наёмник–сын»11. Недостатком данной типологии для применения на практике можно считать её отвлечённую умозрительность и недостаток иллюстративного материала, наглядно представляющего данные типы духовного устроения. Иллюстрации, даваемые аскетической литературой, касаются, в основном, случаев из монашеской жизни, экстраполяция которых на реальность современного церковного социального служения представляется затруднительной, за редким исключением.
Кроме того, эта типология охватывает очень узкий круг: христиан, сознательно вставших на путь подвижничества, причём, не только новоначальных, но и в значительной мере преуспевших, которых счёт — на единицы. Люди не воцерковлённые, неверующие или сомневающиеся данной типологией не рассматриваются, а таких людей среди адресатов церковного социального служения — подавляющее большинство, и значительная часть их — среди совершителей.
Значительно более универсальной системой координат представляется охватывающая весь возможный спектр состояний духовной жизни человека тримерие: «нижеестественное — естественное — вышеестест-венное», которую находим у св. Марка Подвижника в «Слове о думающих оправдаться делами», гл. 9012. Эту концепцию развивает в своей работе «Богословские основания социальных наук» С. А. Чурсанов13, говоря об онтологических уровнях реализации свободы человека, давая характерные признаки каждого уровня.
Нижеестественный уровень характеризуется кругом мотивов, определяемых страхом смерти, которые сводятся к двум вариантам: ориентация на удовольствия: «… станем есть и пить, ибо завтра умрём» (1 Кор 15:32), и стремление избежать страдания любой ценой: «…кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него; но простри руку Твою и коснись кости его и плоти его, — благословит ли он Тебя?» (Иов. 2:4–5). Проявляются эти установки в сосредоточнении своей жизни на себе, обособлении от окружающих (в первую очередь — от Бога, но этого может быть не видно), борьбе за жизненные ресурсы.
Естественный уровень характеризуется, прежде всего, отвержением мотивов вышеупомянутого свойства. Выражается в поведенческих стереотипах, характеризуемых понятиями «благородство», «порядочность» (в противовес «подлости»). На этом уровне человек свободно, в полной мере реализует себя, свои таланты и достоинства, учитывая свои слабости и недостатки, т. е. свою свободу «быть самим собой». Также этот уровень характеризуется свободой воли — возможностью человека к свободному целеполаганию и устройству своей жизни в соотв етствии с поставленными целями.
Вышеестственный уровень характеризуется недетерминированностью не только нижеестественными мотивами, но и своей природой: умом, желаниями, волей. Личность человека превосходит свой природный ум, принимая Откровение, превосходит волю, свободно отсекая её в практике послушания (что принципиально отличается от практики подчинения, предполагающей возможное несогласие с чужой волей, которую приходится выполнять), превосходит желания, приобретая над ними власть (желать то, что угодно Богу). Маркером вышеестественного уровня реализации свободы является любовь к иному по причине его инаковости, имеющая свой характерный признак — жертвенность, т. е. готовность служить всем содержанием своей индивидуализированной природы, включая и саму жизнь.
Важной стороной духовного устроения кроме онтологического уровня реализации свободы является сторона внутреннего мира личности, именуемая «системой/иерархией ценностей». О важности формирования такой иерархии говорит Евангелие: «.где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:19–21). Послание ап. Павла к Коринфянам говорит также о том, что даже при единстве в главном — единстве веры во Христа, у верующих могут быть разные системы ценностей: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, кáк строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, — каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но тáк, как бы из огня». (1 Кор. 3:10–12).
Разность этих систем обусловлена не только добротностью одних и негодностью других, в числе добротных систем ценностей тоже может наблюдаться существенная разница, как между золотом, серебром и драгоценными камнями. В бесконечном разнообразии равно честных вариантов систем ценностей проявляется беспредельное доверие Бога к Человеку, как соработнику.
Словарь «Богословская антропология» определяет понятие «цен ности» как «определяющие кон структы внутреннего мира человека»14.
Однако ценности, как понятие и как явление рассматривается не только теологией, но и секулярными гуманитарными науками.
Теорией ценностных ориентаций занимались психологи: Ш. Шварц (Израиль)15, М. Рокич (США)16, и другие. В России методику диагностики ценностных ориентаций М. Рокича развил И. Г. Сенин.17 Методика последнего автора была использована группой исследователей в Санкт-Петербурге для оценки влияния воспитательно-образовательной среды на духовное развитие курсантов Санкт-Петербургского Университета МВД 18. В упомянутом докладе не приведены подробно ход и результаты данного исследования, из-за чего возможны сомнения в обоснованности и валидности опубликованных выводов.
Сомнения в возможностях данной методики для адекватной оценки «духовного развития» усиливаются после прочтения текста опросника, используемого в методике. Среди утверждений, приведённых в опроснике, практически полностью отсутствуют те, которые всерьёз заинтересовали бы практикующих верующих, материал опросника полностью исключает область взаимоотношений человека с Богом, или иной сверхъестественной реальностью. Кроме того, при отсутствии развёрнутого определения понятия «духовное развитие» остаётся невыясненным вопрос: что под этим термином подразумевают авторы — психологи? Однако сам подход диагностики ценностных ориентаций — несомненно, интересен и при адаптации методики к реальностям церковной жизни, возможно, даст относительно репрезентативные результаты.
Наиболее важным представляется выбор методов сбора информации. Познать духовное устроение человека, и тем более — динамику этого устроения, руководствуясь данными объективирующих методов невозможно, ибо личность, обладая богодарованной свободой, всегда может уклониться от роли объекта познания, а духовная жизнь предполагает также общение с Личным Богом, непостижимым в Его Сущности.
О духовной жизни человек может только рассказать, добровольно и искренне раскрывшись в субъект-субъектном контакте, основанием для которого, помимо формальных и функциональных обязанностей, является, главным образом, добрая воля участников и взаимный интерес друг ко другу, что принудительно обеспечить невозможно, и этим, казалось бы, нарушаются весьма важные принципы методологии любого исследования — верифицируемость и воспроизводимость метода исследования со всеми его деталями.
При выборе метода сбора информации необходимо учитывать и такой фактор, как социальная желательность, т. е. такой эффект деформации самоотчётов, психических реакций в ситуации оценки со стороны (тестирование, анкетирование, беседа, наблюдение) под влиянием порой неосознаваемых установок показать себя в социально благоприятном аспекте19. Поэтому методами эмпирического исследования для познания человека в церковном социальном служении могут служить методы, либо исключающие восприятие респондентом данной ситуации, как некоего испытания: включённое наблюдение, скрытое интервьюирование (общение с минимизацией формальных признаков интервью), либо не предполагающие социальных последствий (как негативных, так и позитивных) для респондента, например, анонимное анкетирование (с гарантией абсолютной анонимности, предполагающей невозможность в т. ч. косвенного «вычисления» личности респондента).
методика исследования. Для поиска подходов к решению вышеуказанных вопросов, в рамках проекта «Проблемы и перспективы институционализации церковной социальной деятельности в современной России» при поддержке Фонда Развития ПСТГУ, участниками этого проекта — диаконом Олегом Вышинским — старшим преподавателем кафедры Социальной работы ПСТГУ и Ремезовым Василием — студентом той же кафедры, в рамках Всероссийской научной конференции «Феофан Затворник — основатель христианской психологии», в рамках секции: «Социальное служение — практика добрых дел» был проведён круглый стол с участием православных священнослужителей, психологов, педагогов, медиков, руководителей проектов церковного социального служения, студентов РХГА и СПбГИПСР.
Организаторы круглого стола обратились к участникам за помощью в разрешении вышеприведённого противоречия между настоятельной необходимостью разработки методов оценки влияния содержательной части церковного социального служения на духовное возрастание его совершителей — с одной стороны, и аскетическими требованиями отказа от оценки степени своего или чужого духовного преуспеяния — с другой. Участникам также было предложено поделиться своим видением образа или логики влияния содержательной части церковного социального служения на духовное устроение его совершителей.
Участники круглого стола отвечали как устно, так и письменно. Было заполнено десять опросных листов и озвучено десять выступлений (помимо вступительного слова), по ходу которых ведущим (диакон Олег Вышинский) задавались уточняющие вопросы.
Первый вопрос, заданный участникам круглого стола был сформулирован следующим образом:
вопрос № 1. можно ли оценить степень духовного возрастания совершителей церковного социального служения, и, если можно, то по каким критериям?
результаты письменного опроса и интервью:
Участники (имена участников изменены) по-разному ответили на вопрос: нужна ли оценка влияния содержательной части церковного социального служения на духовный рост его совершителя. Вот мнение одного из участников — психолога:
«Считаю, что любая оценка в таком служении не будет полезна, т. к. для совершителя важна полезная конструктивная обратная связь, безо-ценочность. Оценка делает любое дело ограниченным той самой оценкой» (Антонина Е., психолог).
Другая участница, Екатерина Г., также психолог считает, что такая оценка « открывает немощи » совершителя служения.
Социальный педагог, работающая с трудными подростками Евгения А. считает, что оценивать нужно, но «оценить, как влияет на тебя благотворительность — сложно.».
Специальный психолог, работающая в школе для детей с ДЦП, Мария К. написала, что оценивать влияние содержательной деятельности церковного социального служения на духовное устроение его совершителя нужно, и аргументирует это так: « Если у человека усугубляется гордыня на пути церковного социального служения, то, наверное, стоит задуматься о своей душе, жизни».
Психолог Мария О. и педагог Лариса С. считают, что «оценка со стороны необходима, самооценка — опасна».
Педагог Валерия Б. считает, что оценка духовного уровня (и соответственно изменений этого уровня) как самим человеком, так и сторонним наблюдателем, даже духовником, близко знающим человека, невозможна. Духовник, впрочем, может увидеть нечто настораживающее и скорректировать духовную жизнь своего чада, но и он оценить его духовное состояние не может: « Духовник может увидеть его неверные шаги и скорректировать. Но дать оценку. Мы ведь очень изменчивы. Сегодня мы поднялись к Богу, завтра мы низко пали. Сегодня мы были милосердны, а завтра мы обнаружили, что мы были милосердны к дальним, а по отношению к тому человеку, который рядом и умирает, я был совсем немилосерден».
Расхождения в ответе на вопрос о допустимости и желательности оценки влияния содержательной части церковного социального служения на духовный рост его совершителя, можно объяснить несогласованностью терминов. Термин «оценка», видимо, нуждается, в особом уточнении, либо в замене на более однозначный.
Некая часть участников под этим словом понимали суждение в категории качества: похвала — порицание, другая часть имела в виду объективное отслеживание признаков, доступных некоему измерению. На некорректность постановки вопроса об изменениях духовной жизни в категории качества, и предпочтительность ориентации на некие очевидные критерии, или «индикаторы» указала Евгения Р.: « При вопросе о том, как изменилась степень милосердия мне вспоминается мультфильм про Простоквашино: “мохнатость повысилась”. Эти вопросы стоят не вполне корректно — нужны некие индикаторы. Вопрос — стали ли вы милосерднее, действительно может поставить в тупик, как изменилась степень милосердия — человек оценить себя не может. Нужны индикаторы, а они — непонятны. Правильнее было бы поставить вопрос так: что в вас изменилось? Стали ли вы терпимее, как изменились ваши отношения с близкими? С коллегами? С благополучателями? Если мы берём категории внутренней жизни, “Возлюби Бога” — это чисто умозрительно, а отношения с ближними — конкретный критерий.».
Участники круглого стола предложили следующие индикаторы изменения духовного устроения совершителей социального служения:
Повышение порога раздражительности, изменение внешних проявлений эмоций. Рассказывает участник круглого стола Евгения Р., работавшая с алкоголе- и нарко зависимыми: «.Был у нас воспитанник, который был очень гневливый. С криминальным прошлым из-за наркотиков. Он даже за себя не ручался. Очень быстро переходил от слов к кулачному бою, мог дать в лоб, в глаз. В процессе выздоровления он болезненно это переживал, каялся, и вот недавно в пылу спора сказал кому-то резкое слово, тут же осёкся: “Господи, прости меня, согрешил, сказал раздражённо!”».
У описываемого подопечного изменился порог в сторону повышения: раздражители, на которые ранее реакцией была немедленная импульсивная агрессия, вызывают уже значительно более сдержанную и отсроченную реакцию, и даже эту реакцию подопечный оценивает критически. Этот пример показывает динамику онтологического уровня реализации свободы: от нижеестественного к естественному: будучи прежде детерминированным зависимостью от наркотиков, человек пересматривает стиль общения с окружающими в сторону отказа от привычной агрессии (как способа оградить свою зону комфорта от вторжения иного субъекта со своими интересами и требованиями), и даже в какой-то мере к вышеестественному: покаяние, как изменение ума, происходит при условии отказа от пользования силами своей индивидуализированной природы — своего ума, своей воли, своих желаний.
В нашем случае этот отказ был единственным способом ухода от нижеествественных мотивов поведения, завладевших естественными силами природы подопечного, и можно сказать, что возврат человека от нижеестественного состояния к естественному может происходить через вышеестественное (веру, послушание).
Изменение исповедуемой системы ценностей.
Та же участница рассказала историю о подопечном, который был вором-карманником. До реабилитации он оправдывал свой образ существования, даже считая себя при этом верующим, но в процессе реабилитации его взгляды изменились: «Через полгода мы встретились, рассказывает: “До реабилитации я думал, что верю в Бога. Когда пожил здесь — понял: не верил. Раньше думал, что я — правильный пацан, если ворую, то только у чужих, наглых и мордатых, и если я у них взял и ещё с кем-то поделился, то я вообще — молодец. Пожил на приходе, понял, что воровать нельзя даже у наглых и мордастых — они наши непознанные братья”».
А свою прежнюю квалификацию карманника он теперь использует для того, например, чтобы доставить человеку приятный сюрприз: «Он работал на трапезе как-то, я попросила у него конфетку и спросила:
ты действительно — крутой карманник? А когда спросила повторно про конфетку, он ответил: “А она у тебя в кармане”». В данном случае мы видим изменение иерархии т. н. «инструментальных ценностей», или «ценностей-средств», согласно классификации М. Рокича.
Исповедуя прежде убеждение в возможности решать проблему имущественного неравенства криминальным образом, подопечный изменил впоследствии отношение к данному средству, как к ценности. Иллюстрации участницы касаются изменений духовного устроения благополучателей проекта, в котором она работает, однако в нашем случае это не принципиально, эти критерии могут быть релевантными и для субъектов церковного социального служения.
Изменение отношений с близкими: «Меняются их отношения с близкими: они в состоянии как-то выстроить свою собственную жизнь, восстановить собственную семью. Жена, которая не хотела иметь с человеком дела, принимает его обратно». О какой динамике духовного устроения говорит этот индикатор, имеющий внешний событийный характер, говорить трудно без анализа конкретных ситуаций.
Изменение локуса контроля — с экстернального на внутренний.
«.Вот у нас тоже был, мягко говоря, хулиган, у него была ко мне просьба, мы назначили встречу. Он мне звонит и говорит: Вы мне в понедельник назначили? Я говорю — да, назначила, но только в следующий. Он мне отвечает: “Простите, видимо я услышал то, что сам хотел услышать”. Тоже — мера внимания к самому себе, вместо того чтобы упрекнуть меня в недостаточно чёткой артикуляции, он сразу списал всё на свою ошибку» . Экстернальный локус контроля является характерным признаком эгоистического обособления человека от окружающих с сопутствующим враждебным к ним отношением. Изменение локуса контроля в сторону внутреннего несомненно свидетельствует о выходе человека за пределы нижеестественнного уровня реализации свободы, т. е. отражает положительную динамику духовного устроения.
Способность отождествить себя с адресатом твоего служения и умение видеть себя, как в зеркале, в адресате твоего служения. Об этих критериях на круглом столе говорил священник Леонид (СПб): «.Из моего опыта я понял, что каждый человек мне на исповеди озвучивает мои собственные проблемы. Что бы ни говорил человек, он говорит про тебя. Но мы-то сразу становимся в оппозицию — советы давать. Я один раз так понял, что исповедующийся рассказывает мне обо мне самом, что не сдержал слёз, ничего не сказал человеку, только грехи отпустил, как себе самому.
Там тяжёлая была ситуация. Человек, увидев, что батюшка слушает его и плачет, сильно изменился, на него прямо благодать сошла, он ушёл, радуясь и веселясь, прямо-таки подпрыгивая.». Эта экстраполяция из области пастырского душепопечения также нам представляется уместной, т. к. речь идёт о субъект-субъектном контакте, что характерно и для церковного социального служения. Восприятие проблем ближнего, как своих собственных — по меньшей мере — признак отсутствия эгоистического средостения между человеком и ближним.
Об этом же говорит и Евгения Р.: «.Мы начинаем понимать сами себя, когда мы отражаемся в глазах друг друга: когда я заглядываю в глаза другого, я в них вижу себя, и получаю более реальную обратную связь о себе, чем я бы сидел один дома среди книжек и гаджетов. церковное социальное служение позволяет “зрети своя прегрешения и не осуждати брата своего” за счёт большого количества актов взаимодействия с людьми, особенно с людьми сложной жизни, которые очень хорошо видят твои прегрешения, и дают тебе обратную связь.».
Приобретение большей чувствительности (снижение порога чувствительности) к страданиям другого человека. Об этом говорит участница Надежда, психолог. Она же говорит и о таких критериях, как:
Изменение ответной реакции на агрессию извне — вплоть до полного отсутствия ответной агрессии или страха.
Чувство нежности к адресатам служения.
Изменение способа действия в конфликтных ситуациях. Это близко к критериям — повышение порога раздражительности и изменение внешних проявления эмоций (1) и изменение ответной реакции на агрессию (7).
Мотивация к продолжению служения и ожидания для себя (т. е. чего сам человек хочет достичь) от этого служения.
Таким образом, мы видим, что некая объективная диагностика в целях корректировки духовного устроения совершителя социального служения принципиально возможна, если отказаться от «интуитивности», и оперирования категориями качества, а руководствоваться определёнными обозначенными критериями, доступными количественному измерению, градации, или переводу в количественный эквивалент.
Эта задача представляется выполнимой, так как большинство данных критериев являются динамическими, отражающими некие изменения, и если представить их в качестве переменных, то, по крайней мере, каждая переменная будет иметь хотя бы два значения. Так, у Аввы
Дорофея в десятом поучении «О том, что должно проходить путь Божий разумно и внимательно», мы можем найти целый ряд значений такого выявленного нами критерия динамики духовного устроения, как способ действия в конфликтной ситуации (9): «.Один святой старец сказал: “Ходите путём царским, и считайте поприща (вёрсты). Поприща же (вёрсты) суть различные устроения, которые каждый всегда должен считать и замечать непрестанно: где он, до какой версты достиг, и в каком устроении находится?
. Иной, когда услышит одно слово, смущается или отвечает пять слов или десять на одно слово, и враждует и огорчается. И когда спор прекратится, он продолжает иметь помыслы на сказавшего ему оное слово, и помнит зло, и жалеет, что он не сказал более того, что сказал, и готовит в себе ещё худшие слова, чтобы сказать ему. И постоянно говорит: “Зачем я не сказал ему того-то, зачем он мне это сказал, и я ему то-то скажу”, и постоянно гневается. Вот одно устроение.. Другой, когда услышит слово, хотя и смущается и также отвечает пять слов или десять на одно, и жалеет, что не сказал и других трёх худших, и скорбит и помнит зло, но по истечении нескольких дней изменяется. Другой проводит неделю в таком состоянии и переменяется, а иной изменяется и через день. Другой же оскорбляет, ссорится, смущается, смущает, и тотчас обращается. Видите, сколько различных устроений!
. Скажем и о тех, которые сопротивляются страсти. Иной, когда услышит слово, печалится, но не о том, что его оскорбили, а о том, что он не перенёс сей обиды: таковой находится в состоянии подвизающихся и сопротивляющихся страсти. Другой подвизается и трудится, но, наконец, побеждается понуждением страсти. Иной не хочет отвечать оскорбительно, но увлекается привычкою. Другой старается не сказать отнюдь ничего обидного, но скорбит о том, что ему досадили, однако осуждает себя за то, что скорбит, и раскаивается в сём. Иной не огорчается оскорблением, но и не радуется о нём. Вот эти все сопротивляются страсти.
. Наконец, желаем сказать и о тех, которые искореняют страсть. Иной радуется, когда его оскорбляют, но потому, что имеет в виду награду. Другой радуется, получая оскорбление, и думает, что он должен был претерпеть оскорбление, потому что он подал повод к тому. Другой не только радуется, когда его оскорбляют, и почитает виновным самого себя, но и сожалеет о смущении оскорбившего его. Бог да введёт нас в таковое устроение.
Видите ли, сколь обширны сии три устроения? Итак, каждый из нас пусть рассматривает, как я сказал, в каком он находится устроении”» 20 .
— Выявить все, или, по крайней мере, некоторые возможные значения переменных, являющихся производными вышеуказанных критериев, нами предполагается в ходе дальнейшего исследования, которое будет включать в себя такие методы, как фокус-группы, экспертные интервью и проч.
Второй вопрос, который был вынесен для обсуждения участникам круглого стола, был сформулирован следующим образом:
вопрос № 2. каким образом дела церковного социального служения влияют на изменение духовного устроения его совершителей?
Участники круглого стола поделились своими соображениями относительно образа и логики влияния содержательной части церковного социального служения на изменения духовного устроения его совершителей. Суммируя сказанное участниками на круглом столе, можно вывести следующую логическую схему этого влияния.
Влияние это осуществляется, прежде всего, за счёт частоты субъ-ект-субъектных контактов. Личность, как образ Божий, согласно определению С. А. Чурсанова21, актуализируется в личностных отношениях. Как подчеркнули участники круглого стола:
«.Мы не просто делаем лучше, кормим голодного, посещаем заключённого или больного. Отличие социальной работы от социального служения в том, что мы стараемся актуализировать в нашем благополучателе образ Божий. Хотя бы тем, что мы стараемся в человеке это разглядеть. Человек к нам приходит часто во всём своём безобразии, но мы стараемся разглядеть в нём Образ Божий, и верим, что, несмотря на весь греховный опыт его жизни, это возможно, это в нём есть и может актуализироваться. А совершители церковного социального служения эту задачу могут выполнить, только если это в них самих актуализировано. Люди, которые приходят на это служение, должны понимать, что если я в самом себе этого не вижу и не стараюсь стяжать подобие Божие, то в этой отрасли — ничего не могу. Мы начинаем понимать сами себя, когда мы отражаемся в глазах друг друга. Когда я заглядываю в глаза другого, я в них вижу себя, и получаю более реальную обратную связь о себе, чем я бы сидел один дома среди книжек и гаджетов, и мечтал бы о себе: какой же я прекраснодушный и т. п. И ещё есть момент, который, очень важен. Мало того, что церковное социальное служение позволяет “зрети своя прегрешения и не осуждати брата своего” за счёт большого количества актов взаимодействия с людьми, особенно с людьми сложной жизни, которые очень хорошо видят твои прегрешения и дают тебе обратную связь. Это служение производится общинным образом жизни братства, сестричества, коллектива, приходской общины. Сама Церковь строилась как община. И в этой общинной жизни человек старается сглаживаться, видеть собственные прегрешения, а не грехи другого человека. Когда в жизнь человека входят эти люди — сотрудники и благополучатели, даже если их двое или трое (а посреди них — Христос), то они стараются правильно строить отношения между собой, это — тоже очень полезно».
Вот ещё одна выдержка из обсуждений на круглом столе. Говорит Полина Д., педагог по специальности, бывший чиновник управления образованием:
«.Я очень благодарна благочинному, который очень мудро вел меня — чиновника, который привык, чтобы выполняли его приказы. А тут — какие приказы? Нужно взаимодействовать, сотрудничать. И эта деятельность выявила и гордыню, и тщеславие и самонадеянность — весь букет».
Содержательная часть церковного социального служения даёт обильный материал для «работы над ошибками» — рефлексии или внутреннего делания. Вот что говорят об этом участники:
«.Наше делание, служение и просто работа — правильное устроение своего сердца. В Евангелии сказано: “Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?”. Эти слова для меня много значили, их полезно вспоминать, чтобы себя останавливать, когда ты ловишь себя на том, что действуешь ради самоутверждения, хочешь себя показать. Только балансируя на своей самости, превозмогая свои грехи, исповедуя их, падая и вставая: “Господи, благослови!” “Господи, укрепи!”. Вместо “как хорошо получилось!” — “Слава Тебе, Господи!”.. Вести самоанализ и видеть себя со стороны и останавливать, когда какая мысль приходит тщеславная и останавливать себя. Корыстная мысль — сразу — “Господи, помилуй!” Замедлишь в этих мыслях — Господь сразу отступает. Когда пропускаешь вперёд своё “Я”, всё бывает совершенно иначе, чем задумано.
Рефлексия — я не люблю этого слова. Внутренний взгляд, он даёт возможность держаться.»
Но главный импульс к духовному возрастанию даёт личная встреча с Богом. Участники об этом говорили очень много, и их свидетельства можно условно разделить на три категории.
-
а) Встреча с Богом в Церкви, опосредованная в Её Таинствах и церковной жизни. Об этом говорят многие участники:
«.Воцерковлялась я постепенно. Сейчас я понимаю, мне хорошо было бы идти на это служение из очень крепкой общины. Нужно было жить в общине приходской. Взращивание на служение должно осуществляться в общине. Община должна быть крепкой. И она должна в какой-то момент поддержать этого человека, который выходит на некое служение. А как поддержать? Молитвенно. Без молитвенной поддержки на служение идти невозможно — потерпишь фиаско. Возрастание идёт постоянно. Учёба, литургическая жизнь, Таинства. Без благодати рта не откроешь. Начиналось так: был форум в «Орлёнке». Собрали преподавателей ОПК, методистов, заместителей директоров методических центров и т. д. И перед нами выступил батюшка — архимандрит Амвросий (Юрасов) — духовник женского монастыря в Иванове К нему со всей России приезжают, и не только с России.. И я — учитель Русского языка и литературы, впервые там услышала, что такое грех. Там у меня впервые была исповедь — за занавесом сцены. Я пошла к нему и как будто баню прошла — была вся мокрая: батюшка задавал вопросы. Приехала из «Орлёнка», пришла в свой храм, пошла к Причастию, меня священник спрашивает: «А Вы исповедовались?» Я — говорю: да я у самого архимандрита.А священник нашего храма стал меня останавливать. Я начитавшись книг — «Лествицу» и прочие, прошу у нашего священника — благословите 150 «Богородицу» читать? А он: «сколько можешь, столько и читай». Мудро.».
«.У меня, например, серьёзные изменения в духовной жизни начались с того, что я неделю смогла побыть в молчании, прочитать Евангелие и поразмышлять над вопросами, касающимися Евангелия. Слово Божие достигло сердца.».
-
б) Встреча, опосредованная систематическим духовным образованием, как считает Валерия Б., педагог, сестра милосердия:
«.Можно заниматься церковным социальным служением, можно быть в общине, приступать к Таинствам, общаться со священником, который меняет твою жизнь, но если нет регулярного духовного образования, возрастания в знаниях, если ты не выстроен в какой-то церковной системе, то духовное возрастание человека, который стал на путь церковного социального служения, может приостановиться, заглохнуть. Если человек возрастает, он возрастает и через Таинства Церкви и через духовное руководство, и в т. ч. через духовное образование. Необходимо познавать некоторые вещи догматического характера. Ходить в Церковь, исповедать грехи и почитывать популярную литературу — недостаточно. Должна быть выстроена система образовательная. Важна не только догматика. Очень большое значение имеет Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Особенно, если преподаёт батюшка. На наших курсах он преподаёт не только какие-то знания об этом предмете, а преподаёт так, чтобы человек увидел себя на своём жизненном пути, в том числе и в служении. Любое знание даёт духовный опыт, который мы извлекаем из этого знания и умения этот опыт извлекая, применять его к себе. Из уст священника многие знания подаются по-другому, нежели от просто хорошо просвещённого человека. Это знание представляет собой совершенно другой посыл учительского знания. И другой эффект имеет на твою душу. Душа работает в момент получения этого знания. И это потом как-то проявится в твоей практической жизни. Взять, например притчу о Милосердном Самарянине, её многие знают, как Самарянин не остался равнодушным. Но вот если эту притчу рассказал батюшка — вот это даёт человеку не пройти мимо в реальной жизни. Я не знаю, почему, но это — так. Человек не просто умом понимает, но погружается в это знание, которое даёт человеку стать на путь служения. Постигает это церковно».
-
в) И, наконец, в жизни христиан, в т. ч. и совершителей церковного социального служения могут происходить события, которые воспринимаются ими как непосредственная личная встреча с Богом. Встреча двух личностей, даже людей — событие, которое недоступно фиксации никакими объективирующими методами.22 Однако, такая встреча оставляет неизгладимый след в сознании того, кто её испытал, преподносит вполне осязаемые уроки. Вот что рассказывают участники о подобных встречах:
«Однажды, работая еще рядовым сотрудником «Автобуса Милосердия», я получил серьезный урок на всю жизнь. Вели мы зимой прием подопечных в районе Курского вокзала. Не знаю уж, что произошло, но «клиенты» вели себя особенно безобразно — хамили, матерились, чуть ли не дрались. Мы сделали пару раз внушение — как об стенку горох! Тогда мы приняли решение прекратить прием. Бродяги взмолились, но мы были непреклонны: «В другой раз подумаете, как себя вести!» — и дали команду водителю на старт. Тут один из подопечных, вечно чумазый и пьяный Паша Х., в сердцах нам пожелал: «Да чтоб вы сломались!» И мы сломались. Автобус не завелся из-за под чистую разряженного аккумулятора. Пришлось нам бить челом все тем же подопечным, чтобы завели наш автобус «с толкача». Те оказались удивительно незлобивыми. Господь явно дал нам понять, Кому мы служим, и Кто действует нашими руками, Кто — Главный Субъект нашей деятельности»23.
О таких вразумляющих Посещениях говорит та же Лидия Х., сотрудник реабилитационного центра для наркозависимых: «.Бывает, начинаешь себя оценивать — а из практики приходит некий человек, некая ситуация с твоим участием, которая показывает, что ты не таков, каким себя только что представлял. Это — посещение Божие. Господь нас ведёт так, что в один момент ты видишь правду о себе. И эта правда, она диа-гностична: стал ли ты милосерднее или нет? Обмануть себя — сложно».
Помимо вразумления и исправления такие встречи могут иметь значение чудесной поддержки и защиты, рассказывает Валерия Б.: «Я, когда начинала работать с детьми сиротами, это было начало 90-х. Опыта у меня никакого не было, а тут вдруг стала директором детского дома. И мне дали 40 подростков. Можно сказать — бандитов, хулиганов с улицы. Дали здание бывшего детского сада, без оборудования. Мы оказались в очень сложных условиях. Я тогда была верующей, но у меня не было постоянного окормления. И с нами случился такой эпизод. Нам по гуманитарной помощи привезли очень красивые светильники. Мы их сразу развесили в группах. В группах были мальчики подросткового возраста лет по 13–14, все — на учёте в милиции, коррекционные и т. д. с признаками асоциального поведения. На следующий день выяснилось, что ни одного светильника ни в одной группе уже нет. Ребята их сняли, что они с ними сделали, можно было только предполагать. В коллективе педагогов поднялась волна протеста, негодования и злости, где-то даже ненависти. Хотя среди педагогов были и люди верующие, христиане. Вечером мы пригласили этих мальчиков к себе, сделали педагогический совет, сели и решили с этими мальчиками поговорить. Пристыдить больше всего, какое они безобразие натворили! Мальчики стали перед нами в эдакой защитной позе, они могли сорваться: для них понятия закрытого мира вообще не существовало. И потом у нас был женский коллектив, а они — мальчики. Мы сидели кругом и несколько человек попытались задать тон такого обвинительного характера. Я сначала сидела молчала, а потом поняла, что нужно остановить ситуацию и просто помолчать, помолившись Богу. Я попросила, чтобы пока никто не высказывался перед мальчиками, и мы просто помолчали какое-то время. А потом пришло какое-то слово Любви, я почувствовала к этим ребятам какую-то не свою Любовь. Нечеловеческую. Возмущение ушло на задний план, а Любовь появилась между нами. Были сказаны какие-то достаточно простые слова. Я их не помню и даже пересказывать не буду, потому что не в них суть. У мальчиков на глазах появились слёзы, и все молчали. Посидели, а потом мы их отпустили. На следующий день они принесли все светильники, сами развесили их на стены. И самое главное дело было не в этих светильниках. А в том, что с того момента мы начали слышать и понимать друг друга. Началась другая жизнь: дети стали меняться, стали меняться и мы. Это пример, когда социальное служение превращается в служение Богу. Богу и ближнему. Это было нечто необъяснимое. Это было то, что Господь хотел сделать среди нас. Говорят, иногда нужно успеть помолиться. А иногда в молитве ничего сказать не успеешь, только успеешь возвести глаза к Богу. Я всё больше убеждаюсь, что Господь всё творит вокруг нас. Мы думаем вот сейчас мы как начнём тут делать, а на самом деле это Господь делает посреди нас».
Похожую историю рассказала Надежда, психолог. История из опыта французского подвижника социального служения Жана Ванье, воспроизведённая с его рассказа, который непосредственно слышала Надежда:
«Одну историю Жан Ванье рассказывал про себя. Когда он организовал эту общину, там были очень тяжёлые больные, которые мешали жителям дома. Один из жильцов оказался очень агрессивным пришёл и стал угрожать Жану. Угрозы были серьёзные и реальные, а Жан — пожилой человек и, естественно, стал испытывать страх. Его помощница уже хотела вызвать полицию, в конце концов агрессор ударил Жана по уху. Далее Жан рассказывает: «Я слышу, как я говорю: — ты можешь ударить меня ещё раз, если хочешь». После этого обидчик протянул к нему руку и сказал: «Пойдём ко мне, выпьем апельсинового сока, у меня есть». Понятно, что это говорил не Жан, это говорил в нём Бог. Вот такой опыт.» .
Общим в этих двух историях является критическая конфликтная ситуация, когда христианин, терпящий обиду, находится в состоянии растерянности, и безмолвной мольбы, «вопия» ко Господу, подобно Моисею перед переходом через Чермное море (Исх 14:15), и Сам Господь (в обеих историях подчёркивается пассивность повествующих в этот момент:
«.почувствовала какую-то не свою Любовь.» , «Я слышу, как я говорю.» ) влагает в уста Своих служителей нужные «.какие-то очень простые слова.» , которые, однако, действуют с непреодолимой силой.
заключение. Духовное возрастание «потаённого сердца человека» (1 Пет 3:4), т. е. динамическая жизнь личности, этой, согласно определению С. А. Чурсанова24, несводимой к природе онтологической основы человека, не поддающейся объективирующим методам наблюдения, подобна Евангельскому слову семени, которое человек бросил в землю и не знает, как оно растёт (Мк 4:26–27).
Когда же речь идёт о личной встрече человека с невидимым и непознаваемым Богом, неопределённость и необъективируемость этих отношений усугубляются. Это — область, описываемая преимущественно в апофатических категориях. Церковное социальное служение — напротив, деятельность, связанная с конкретными делами, совершаемыми конкретными служителями для конкретных же благополучателей. Эти дела описываемы, измеряемы, объективируемы. Однако корень этих описываемых, измеряемых, объективируемых дел лежит в реальности, не поддается точному описанию.
Это происходит по причине Богочеловечности Церкви и её Миссии, её служения, в которой соединено Божественное и человеческое неведомым для нас образом. Мы можем сказать, что церковное социальное служение призвано являть собой воплощённую духовную жизнь, духовную, невещественную жизнь, воплощённую в вещественных делах. И это коренным образом меняет наше отношение к возможности объективации духовных явлений, происходящих в нашей жизни. Личную встречу с Богом нельзя зафиксировать, текущую покаянную работу, или очередное падение личности человека мы зафиксировать тоже не можем. Однако встреча с Богом может происходить в связи с определёнными и описываемыми обстоятельствами в социальной жизни, и оставляет в душе человека неизгладимый след в виде вполне описываемого опыта. Текущая покаянная работа ведёт к формированию определённых навыков в виде динамических стереотипов на психофизиологическом уровне, разлагаемых на составляющие и доступных измерению.
Таким образом, церковное социальное служение мы можем сравнить с иконописью. Последняя стала возможна, когда Воплощение преодолело ветхозаветный запрет на изображение Невидимого, ибо «Слово стало плотию» (Ин 1: 14). Так же, как в христологии Неизобразимый стал доступным к изображению, в экклезиологии в связи с Богочеловечностью Церкви, воплощённостью дел Любви (к чему призвано церковное социальное служение), необъективируемое может стать доступным объективации. Необходимы соответствующие методы.
Исходя из вышеизложенного, такая методология представляется возможной. Она складывается из методов сбора информации, упомянутых нами, и аналитических методов. Требования к методам сбора информации таковы, что они должны создавать обстановку и условия субъект-субъектного контакта и исключать эффект социальной желательности. К аналитическим методам можно отнести оценку динамики духовного устроения совершителя или адресата церковного социального служения. Эта динамика может быть оценена по степени выраженности изменения онтологического уровня реализации свободы личности, которую отчасти отражают некоторые выявленные нами индикаторы (перечень этих индикаторов может быть продолжен в ходе дальнейшей работы), если их представить в виде переменных. Также эту динамику возможно оценить в результате повторяющейся диагностики ценностных ориентаций, при условии усовершенствования существующих методик М. Рокича, Ш. Шварца, И. Г. Сенина.
Наилучшим образом духовное устроение человека и его динамику может определить священник в ходе Таинства Исповеди и душепопечительской деятельности. Информацию, полученную им в ходе совершения этого служения, и составляющую, следовательно, тайну исповеди, конечно, недопустимо использовать для каких-либо организационных целей третьими лицами (например — административным руководством службы или проекта). Однако решением этой проблемы могло бы стать внедрение в церковное социальное служение специального института пастырской супервизии, не находящегося в прямой вертикальной связи подчинения управляющим инстанциям церковного социального служения, но взаимодействующего с этими инстанциями в целях исследования проблем и выработки рекомендаций относительно улучшения состояния духовной составляющей церковного социального служения. Данный институт пастырской супервизии церковного социального служения может воспользоваться в т. ч. предложенными методами исследования влияния практики социального служения на духовное устроение его совершителей и адресатов.
Список литературы Влияние содержательной деятельности церковного социального служения на духовное устроение его совершителей: результаты эмпирического исследования
- Богословская антропология. Русско-православный/римско-католический словарь: издания на русском и немецком языках/под науч. ред. прот. Андрея Лоргуса, Б. Штубенрауха. М., 2013. 736 с.
- Вышинский О. Л. диак. Духовные, психологические и практические особенности помощи бездомным. М., 2014. 160 с.
- Гончарова Н. А. Влияние воспитательно-образовательной среды на духовное развитие личности//Социальное служение Русской Православной Церкви:проблемы, практики, перспективы: Материалы международной научно-практической конференции. СПб, 2014. С 210-213.
- Добротолюбие. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра,1993.5 томов.
- Материалы к житию преподобномученицы великой княгини Елизаветы:письма, дневники, воспоминания, документы. М., 1995. 304 с.
- Осипов А. И. Путь разума в поисках Истины. М., 2010. 496 с.
- Пантелеимон, еп. Орехово-Зуевский. Церковная благотворительность - дело профессионала или образ жизни христианина? [Электронный ресурс] // Сайт Отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Режим доступа: URL: htp://www.diaconia.ru/cerkovnaya-blagotvoritelnost-delo-professionala- ili-obraz-zhizni-khristianina (дата обращения: 15.08.2016).
- Преподобного отца нашего аввы Дорофея Душеполезные поучения. М., 2012.415 с.
- Рокич М. Природа человеческих ценностей. New York, 1973. 153 с.
- Сенин И. Г. Психодиагностика ценностно-ориентационной сферы личности как метод социально-психологического исследования: дис…канд. психол.наук: 19.00.05. 19.00.01./Сенин Иван Геннадьевич; ЯрГУ. Ярославль, 2000. 189 с.
- Сержантов Павел, диак. Что полезно знать про духовное устроение [Электронный ресурс] // Ежедневное интернет-издание о том, как быть правосланым сегодня PRAVMIR.RU. URL: htp://www.pravmir.ru/chto-polezno-znat-pro-duhovnoe- ustroenie/ (дата обращения: 1.08.2016).
- Феофан Затворник, еп. Тамбовский и Шацкий. Собрание писем. М., 1898.Вып. II. 260 c.
- Чурсанов С. А. Лицом к Лицу. М., 2014. 264 с.
- Чурсанов С. А. Богословские основания социальных наук. М., 2014. 200 с.
- Шварц Ш. Культурные ценностные ориентации: природа и следствия национальных различий//Психология. 2008. № 2. С 36-67.
- Энциклопедический словарь по психологии и педагогике // Сайт Академик. Режим доступа: htp://psychology_pedagogy.academic.ru/17575 (дата обращения: 9.08.2016)