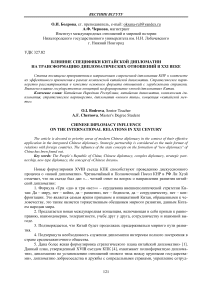Влияние специфики китайской дипломатии на трансформацию дипломатических отношений в XXI веке
Автор: Бодрова О.И., Чернова А.Ф.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 3 (48), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена приоритетным направлениям современной дипломатии КНР в контексте их эффективного применения в рамках комплексной китайской дипломатии. Стратегическое партнерство рассматривается в качестве основного формата отношений с зарубежными странами. Выявлено влияние государственных концепций на формирование «новой дипломатии» Китая.
Китайская народная республика, китайская дипломатия, комплексная дипломатия, стратегическое партнерство, дипломатия "нового типа", концепция "китайской мечты"
Короткий адрес: https://sciup.org/142142869
IDR: 142142869 | УДК: 327.82
Текст научной статьи Влияние специфики китайской дипломатии на трансформацию дипломатических отношений в XXI веке
Новые формулировки XVIII съезда КПК способствуют проведению дискуссионного процесса о «новой дипломатии». Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Ли Хуэй отмечает, что на съезде был дан «… четкий ответ на вопрос о направлении развития китайской дипломатии:
-
1. Формула «Три «да» и три «нет»» – сердцевина внешнеполитической стратегии Китая: Да – миру, нет – войне, да – развитию, нет – бедности, да – сотрудничеству, нет – конфронтации. Это является самым ярким призывом и инициативой Китая, обращенными к человечеству, это также является торжественным обещанием мирного развития, данным Китаем народам мира.
-
2. Предлагается новая международная концепция, включающая в себя призыв к равноправию, взаимодоверию, толерантности, учебе друг у друга, сотрудничеству и взаимной выгоде.
-
3. Подтверждается, что Китай будет продолжать придерживаться мирного пути развития.
-
4. Подчеркнута необходимость служения дипломатии интересам полного построения в стране среднезажиточного общества.
-
5. Дана более ясная формулировка стратегического плана китайской дипломатии» [1]. Данный план, утвержденный XVIII съездом КПК [4], охватывает полноформатную дипломатию, дипломатию по установлению отношений «нового типа между крупными государствами», дипломатию добрососедства и дружбы с сопредельными странами, укрепление сотруд-
- ничества и партнерства с развивающимися странами, усиление многосторонней дипломатии, публичной, культурной, партийной, народной дипломатии и гуманитарные обмены.
Подобная официальная типология дипломатического инструментария свидетельствует о важности определения общей четкой позиции Китая на мировой арене и различных дипломатических направлений в частности, поскольку рассматривать какое-либо направление вне контекста комплексной дипломатии КНР не представляется корректным. «Комплексная дипломатия» ( Й^^^ ) включает в себя все существующие и вновь появляющиеся виды дипломатических отношений, такие как правительственная дипломатия, парламентские связи, военная дипломатия, экономическая, культурная, образовательная, научно-техническая, национальная дипломатия, религиозная, дипломатия здравоохранения, спортивная дипломатия, экологическая дипломатия, дипломатия городов-побратимов, народная дипломатия и др. В XXI в. возникают новые политические инициативы, формулирующие новые понятия, например, ^^^^ — «добрососедская дипломатия», в которых отражается стремление Китая утвердиться в роли ведущего миротворческого участника глобальных процессов как регионального, так и мирового масштаба. К подобному «новому направлению» относится и проведение дипломатии «нового интернационализма» ( ЖВ^^Х ) [6], которая соответствует требованиям трансформации современной китайской дипломатии и предполагает осуществление ряда обязательных шагов во внешней политике: усиления дипломатической привлекательности страны, еще более тесного сотрудничества со всем миром, большую степень ответственности, четкую позицию в принципиальных вопросах.
Китайское правительство разрабатывает особый дипломатический формат для взаимоотношений с каждым государством, уделяя большое внимание с начала XXI в. стратегии партнерства и добрососедства в отношениях с географическими соседями. В отчетном докладе Цзян Цзэминя XVI съезду КПК [5] курс добрососедства, ориентированный на укрепление регионального сотрудничества и повышение уровня обменов и взаимодействия КНР с соседними государствами, был провозглашен и принят официально. Дальнейшее концептуальное развитие данный курс получил в выступлении премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао на торгово-инвестиционном форуме государств АСЕАН-7 (2003), когда было объявлено о приверженности Пекина курсу на «дружественное соседство», «безопасное соседство», «процветающее соседство». К первоначальным основным целям политики добрососедства относились: 1) выстраивание стабильных гармоничных отношений с соседними государствами; 2) укрепление сотрудничества Китая с соседями в сфере безопасности и формирование вокруг КНР «мирного, спокойного окружения»; 3) развитие взаимовыгодного торговоэкономического сотрудничества, стимулирование интеграционных процессов.
Следует особо отметить, что в дальнейшем еще одной целью политики добрососедства стало улучшение восприятия Китая в окружающих его соседних странах. Из этого следует вывод об усилении внимания к вопросу о международном имидже Китая со стороны правительства. Закономерным в создавшемся на тот момент международном положении становится усиление как торгово-экономического, так и культурно-гуманитарного направления данного стратегического курса КНР на региональном уровне.
Проведенный анализ китайской экспертной литературы показал, что можно выделить несколько типов межгосударственного партнерства применительно к КНР. Согласно источникам [10], ссылающимся на официальный сайт МИД КНР, и изученным совместным заявлениям Китая с иностранными государствами и другим официальным дипломатическим документам, обнародованными агентством Синьхуа, у КНР с 55 странами и международными организациями установлены «партнерские отношения». В зависимости от уровня отношений (от официальных и неправительственных организаций до уровня глав государств, председателей правительства и глав ведомств) связи Китая с другими странами можно разделить на «исключительно дипломатические», «добрососедские дружественные», «партнерские», «дружбы и сотрудничества». В XXI в. в применении термина «партнерство» наблюдается дифференцированный подход: в партнерских отношениях определение «всеобъемлющие» указывает на области сотрудничества, «стратегические» означает уровень сотрудничества.
Так, в «Совместной российско-китайской декларации» (1994) отмечено, что между странами «… сложились новые отношения конструктивного партнерства, равноправные отношения добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, основанные на принципах мирного сосуществования» [3]. В настоящее время взаимоотношения Китая и России характеризуются как «всеобъемлющее стратегическое взаимодействие и партнерство» ( 全面战略协作伙伴关系 ).
Со многими региональными международными организациями, например ЕС, Африканским союзом, АСЕАН, у Китая наблюдается «стратегическое партнерство» ( 战略伙伴关系 ). А вот отношения КНР с Лигой арабских государств характеризуются как «партнерские отношения нового типа» ( 新型伙伴关系 ). О «новом типе отношений» все чаще высказываются китайские лидеры, это касается и взаимоотношений Китая с такой крупной державой, как США. Две страны придерживаются «конструктивного стратегического партнерства» ( 建设性战略伙伴关系 ) , подкрепленного прагматическими интересами [8]. Все чаще звучат высказывания относительно «превращения китайско-американских отношений сотрудничества и партнерства в новую форму отношений великих держав XXI века» [2, 9]. В частности, в феврале 2012 г., занимавший в то время пост вице-председателя КНР Си Цзиньпин во время визита в США высказывал эту идею, тогда же председатель КНР Ху Цзиньтао отмечал необходимость в «… продвижении взаимовыгодного сотрудничества и разработки нового типа отношений между крупными державами» ( 新型大国关系 ) [10].
Китайско-японские отношения в рамках партнерства оцениваются как неоднозначные. Заявления двух стран (как отмечает Цян Лифэн, заместитель председателя Китайской ассоциации японоведения) о стремлении к установлению «отношений дружественного сотрудничества и партнерства на благо мира и развития» ( 致力于和平与发展的友好合作伙伴关系 ) (в 1998 г.) [11] к настоящему времени трансформировались в декларирование «стратегических взаимовыгодных отношений» ( 战略互惠关系 ).
Можно утверждать, что сегодня Китай с большинством стран взаимодействует в формате партнерства; с каждой страной складывается свой особый сценарий отношений, но в совместных заявлениях об установлении либо углублении партнерских отношений неизменно присутствует указание на мирную, дружественную направленность государственных связей. Примечательно, что КНР, формулируя уровень своих взаимоотношений с той или иной страной, ставит в ранг все того же партнерства не только соседние страны или крупные государства мира, значительное внимание уделяется развивающимся странам.
Разработанные китайским руководством для внутреннего использования и внешнеполитического проецирования концепции оказывают существенное влияние на определение формата дипломатических отношений КНР со странами мира. В данном контексте наиболее актуальной сегодня является концепция «китайской мечты» ( 中国梦 ), наиболее полное толкование которой было сформулировано на 1-й сессии ВСНП КНР 12-го созыва (17.03.2013) председателем КНР Си Цзиньпином, ее суть сводится к призыву «осуществлять возрождение китайской нации» [7], что, впрочем, присутствовало и в концепциях прежних поколений китайских руководителей, это подтверждает преемственность в генеральном курсе современного Китая, в том числе и на внешнеполитической арене.