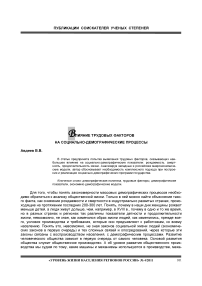Влияние трудовых факторов на социально-демографические процессы
Автор: Авдеев В.В.
Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal
Рубрика: Публикации соискателей ученых степеней
Статья в выпуске: 4 (158), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка выявления трудовых факторов, оказывающих наибольшее влияние на социально-демографические показатели: рождаемость, смертность, продолжительность жизни. Анализируя западные и российские макроэкономические модели, автор обосновывает необходимость комплексного подхода при построении и реализации социально-демографических программ государства
Демографическая политика, трудовые факторы, демографические показатели, экономико-демографические модели
Короткий адрес: https://sciup.org/143181940
IDR: 143181940
Текст научной статьи Влияние трудовых факторов на социально-демографические процессы
Для того, чтобы понять закономерности массовых демографических процессов необходимо обратиться к анализу общественной жизни. Только в ней можно найти объяснение такого факта, как снижение рождаемости и смертности в индустриально развитых странах, происходящие на протяжении последних 200-300 лет. Понять, почему в наши дни женщины рожают меньше детей, а люди живут дольше, чем, например, в XVIII в., почему в одно и то же время, но в разных странах и регионах так различны показатели детности и продолжительности жизни, невозможно, не зная, как изменился образ жизни людей, как изменились, прежде всего, условия производства и требования, которые они предъявляют к работникам, ко всему населению. Понять это, невозможно, не зная законов социальной жизни людей (экономических законов в первую очередь) и тех сложных связей и опосредований, через которые эти законы связаны с воспроизводством населения, с демографическим процессами. Развитие человеческого общества зависит в первую очередь от самого человека. Основой развития общества служит общественное производство. А об уровне развития общественного производства мы судим по тому, какие машины и механизмы используются в производстве, меха- низирован или автоматизирован ли труд людей или, как в «допотопный» период, они работают киркой, лопатой, таскают грузы на себе. В процессе производства участвуют материально-вещественные факторы, т.е. средства производства и субъективный фактор – человек труда как носитель рабочей силы – совокупностью умственных и физических способностей для создания материальных и духовных ценностей, удовлетворяющих человеческие потребности. Уровень развития средств производства характеризуется производительностью, т.е. позволяет работнику производить в единицу времени то или иное количество продукции, обеспечить то или иное его качество. Уровень развития рабочей силы определяется квалификацией работников, его специальной и общей подготовкой, показывает ее способности овладевать имеющимися средствами производства и повышать их отдачу. Общественное производство, благодаря которому развивается общество, осуществляется во времени и в пространстве при наличии природных предпосылок и имеющихся состава и структуры населения. Экономический прогресс неразрывно связан с социальным прогрессом, служит ему, является основой. Конечной целью экономического прогресса является не хозяйственное достижение само по себе, а его воздействие на условия жизни человека. То есть обобщающим критерием экономического и социального прогресса является развитие личности, богатство и разнообразие его потребностей и способностей и возможности в наиболее полной мере удовлетворения этих потребностей. Следовательно, такие показатели как продолжительность жизни, уровень смертности и др., являясь демографическими показателями, являются одновременно индикаторами общественного развития [7, С. 33].
Социально-экономические факторы играют важную роль в формировании сложного комплекса демографических процессов, воздействующие на них через условия жизни людей и осознанное их поведение. Просто статистические материалы о численности и темпах его роста, взятые сами по себе, не объясняют развития общества, не вскрывают роль народонаселения в его развитии. Выделить влияние какого-то одного фактора на демографические процессы часто невозможно. Поэтому требуется комплексный подход.
На проблемы народонаселения еще указывали классики буржуазной политэкономии У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо. Например, А. Смит в своей книге «Исследования о природе и причинах богатства народов» пришел к выводу, что спрос на людей, как и спрос на всякий иной товар, регулируется рынком [8].
С развитием капиталистических отношений происходит дифференциация товаропроизводителей, расслоение общества на более богатых и менее преуспевающих, появляются нищие, обездоленные. В этот период появляется теория Т. Мальтуса, объясняющая, что бедствия народа связаны с перенаселением. Согласно, теории Мальтуса капитал не накопляется (не воспроизводится в возрастающем масштабе) так же быстро, как население.
К. Маркс подверг критике выводы Мальтуса и разработал собственные закономерности развития народонаселения.
По Марксу демографическое движение трудового населения со стороны его численности своим общим определяющим фактором имеет техническое (потребительно-стоимостное) строение производства и труда – их деление на два крупных подраздела: средства производства и живую рабочую силу, что выражается соотношением овеществленного в средствах производства труда и наличного живого труда. Это значит следующее: чтобы привести в движение ту часть общественного богатства, которая существует в виде средств производства, а в условиях капитализма в виде постоянного капитала, необходима определенная масса живого труда, т.е. определенная численность трудового населения; ее величина определяется состоянием средств производства, техникой производства, уровнем производительности труда.
В капиталистическом обществе потребительно-стоимостное (техническое) строение производства приобретает стоимостную форму – деление на постоянный капитал (С) – стоимость средств производства и переменный капитал (V) – стоимость рабочей силы. Эти два аспекта, взятые вместе, К. Маркс называет органическим строением производства и капитала. Накопление капитала, согласно его закону, предполагает изменение соотношения между
С и V в сторону увеличения C по отношению к V, соотношение которых обозначается в виде формулы С>V. Накопление постоянного капитала определяет изменение переменного капитала – стоимости рабочей силы, и, следовательно, стоимости жизненных средств рабочего населения. Соответственно, закон капиталистического накопления имеет прямое отношение к движению труда – в нем выражается соотношение между оплаченным и неоплаченным трудом того же рабочего населения, что предопределяет его социально-демографическое состояние [4, С. 626].
Относительное уменьшение переменной части капитала, ускоряющееся с возрастанием всего капитала, и ускоряющееся притом быстрее, чем ускоряется возрастание всего капитала, представляется, с другой стороны, в таком виде, как будто, наоборот, абсолютное возрастание рабочего населения совершается быстрее, чем возрастание переменного капитала, или средств занятости этого населения. Напротив, капиталистическое накопление постоянно производит, и притом пропорционально своей энергии и своим размерам, относительно избыточное по сравнению со средней потребностью капитала в возрастании, а потому излишнее или добавочное рабочее население [4, СС. 645-646]. Безработица в буржуазном обществе вызвана относительным перенаселением. Иными словами, в буржуазном обществе рабочая сила есть в избытке лишь по сравнению с тем спросом, который на эту рабочую силу предъявляют капиталисты.
Итак, К. Маркс объясняет причину возникновения относительного перенаселения, и, в частности, промышленной резервной армии труда, ростом органического строения капитала. Это означает качественные изменения, происходящие в составе капитала по мере его накопления в процессе расширенного воспроизводства. Обращение К. Маркса к производству и труду дает возможность объяснить движение народонаселения социально-экономическими законами, а не так называемым «естественным законом народонаселения».
Долгое время считалось, что закон народонаселения, сформированный Марксом, является единственным законом, характеризующим движение населения. С середины 60-х гг. XX вв. закон народонаселения при капитализме, сформулированный К. Марксом, стали рассматривать как экономический. Таким образом, развитие народонаселения, понимаемое как закономерные изменения его количественных и качественных характеристик, есть воплощение всеобщего закона развития населения. Развитие народонаселения как всеобщий закон включает закономерные изменения его количественных и качественных характеристик на протяжении всей человеческой истории. В свою очередь всеобщий закон развития народонаселения является следствием действия всеобщего экономического закона возвышения потребностей, который выражает объективную необходимость постоянного развития существующих и возникающих новых потребностей производственного и личностного характера и в связи с этим изменение отношений потребления [7, С. 47].
В отечественной науке первые крупные работы, посвященные выявлению влияния социально-экономических факторов на демографическое развитие, появились еще в 1925-35 гг. Прежде всего, стоит выделить труды академика С.Г. Струмилина, который указывал на то, что экономический фактор действует на рост населения и прямо, умножая материальные фонды расширенного воспроизводства рабочей силы, и косвенно, воздействуя через новые способы воспроизводства и новые формы общежития со всеми идеологическими надстройками на психику и физиологию новых поколений. Это сложное воздействие, однако, нельзя выразить слишком упрощенной формулой роста. Под его руководством проходили первые выборочные социально-демографические и социально-экономические обследования населения, позволившие выявить некоторые закономерности и соотношения во взаимосвязях экономических и демографических процессов. По данным этих обследований, рождаемость у женщин-работниц была в 2 раза ниже, чем у городских женщин – домашних хозяек в одинаковом возрасте [9]. Ряд важных работ этого же периода принадлежат С.А.Томилину. Его идеи о значении для экономики доживаемости населения до отдельных возрастов получил развитие в трудах других ученых. Ю.А. Корчак-Чепурковский разработал методику исследования причин смертности в трудоспособном возрасте, а также синтетические характеристики этих причин. Б.Ц. Урланис исследовал влияние среднее пребывание в рабочем возрасте на соотношение потребления и трудового вклада отдельных поколений.
Влияние экономических факторов на демографические процессы интересует и сегодня, как отечественных, так и зарубежных демографов, социологов и экономистов. В основном это работы направленные на выявление зависимости интенсивности рождаемости, смертности и продолжительность жизни от уровня дохода.
Вопрос о характере связи между уровнем благосостояния семьи и числом детей – один из самых старых и до сих пор наиболее спорных в исследованиях дифференциальной рождаемости.
Вполне очевидно, что для того, чтобы иметь детей, необходимы определенные материальные условия. Очевидно также, что чем лучше материальные условия, тем больше детей можно содержать. Однако результаты эмпирических исследований вновь и вновь констатируют так называемый парадокс обратной связи между показателями уровня жизни и рождаемости.
Уровень жизни большинства населения страны в последнее десятилетие повышался, однако рождаемость снижалась. Можно также отметить, что уровень жизни в городах выше, чем на селе, и в крупных городах – выше, чем в малых, а уровень рождаемости, наоборот, соответственно ниже. На этот парадокс обратной связи обращали внимание в отдельных случаях еще экономисты XVIII-XIX вв.
Так, К. Маркс в «Капитале» отметил его уже как закономерность: «...не только число рождений и смертных случаев, но и абсолютная величина семей обратно пропорциональны высоте заработной платы, т. е. той массе жизненных средств, которой располагают различные категории рабочих. Этот закон капиталистического общества звучал бы бессмыслицей, если бы мы отнесли его к дикарям или даже к цивилизованным колонистам» [4, С. 658].
Вполне естественно, что как всякая статистическая закономерность она проявляется в массе случаев в виде тенденции с множеством отклонений. Но, однако, важно отметить, что обратная зависимость фактически проявляется значительно чаще, чем прямая, и это обстоятельство уже должно привести к выводу, что просто так отмахнуться от этого надоевшего «парадокса» нельзя. В частности, начиная еще с второй половины ХХ в. практически все отечественные и зарубежные исследования факторов рождаемости, в которых в качестве характеристики уровня жизни семьи использовался размер душевого дохода, показали обратную связь между этим показателем и показателями рождаемости.
Предложения по демографической политике по повышению рождаемости связанны почти исключительно с повышением уровня жизни семей. На самом деле, представляется, что все дело в методологии изучения влияния уровня жизни на число детей или на репродуктивные ориентации. При оценке этого влияния рассматривается целиком вся совокупность респондентов или семей без дифференциации по потребности в детях. Именно это представляется методологически неверным и фактически вытекающим из «концепции помех», а не из теории ослабления потребности в детях, ибо, в соответствии с этой теорией, потребность в детях у людей различается, а уровень жизни влияет в основном на степень реализации этой потребности. Следовательно, рассматривать влияние уровня жизни на имеющееся число детей или то, которое люди собираются, предполагают, планируют иметь, целесообразно только в группах, однородных по величине потребности в детях. В противном случае характер связи будет во многом зависеть от того, как различаются по уровню благосостояния люди, имеющие различную потребность в детях. В результате наложения влияния этого фактора связь может получиться прямой или обратной. Интерпретировать ее в аспекте детерминации репродуктивного поведения, а, тем более, обосновывать, исходя из этого направления и меры демографической политики по стимулированию рождаемости, представляется абсолютно бессмысленным, ибо останется непонятным, на что и как влияет, или не влияет уровень жизни: на потребность в детях, или на условия ее реализации [2, С.137].
Конечно, и факты обратной связи дохода с рождаемостью, теперь уже достаточно хорошо доказанные, сами по себе еще ничего не говорят о причинно-следственном механизме такой парадоксальной связи. Из того, что лучше обеспеченные семьи имеют меньше детей, чем хуже обеспеченные, отнюдь не следует, что именно потому они и имеют меньше детей, что лучше обеспечены. Однако, факты обратной связи дохода с рождаемостью имеют ту теоретическую ценность, что способствуют разрушению привычного житейского представления о непременно положительной связи материальных условий жизни с рождаемостью.
Столкновение двух концепций – прямой и обратной связи благосостояния с рождаемостью – способствовало развитию понимания относительности уровня жизни, понимания диалектической связи уровня жизни с развитием потребностей, т.е. понимания уровня жизни не только как категории экономической, но и как категории социально-психологической. Наконец, «парадокс обратной «связи» разрушает привычные представления о естественнобиологическом характере потребности в детях, стимулирует научный интерес к изучению репродуктивной мотивации. Каждая семья и каждый человек в отдельности, вероятно, имеют более или менее отчетливое представление о той степени материального благополучия, которого стоит добиваться исходя из субъективной оценки своих потребностей и способностей. Поэтому представляется интересным исследовать связь желаемого и ожидаемого числа детей не с доходом, получаемым на момент обследования, а с ожидаемым доходом, т. е. таким, которого супруги намерены достигнуть. Думается, что именно этот ожидаемый доход, а не только фактический влияет на ожидаемое число детей [3, С.143-144]. Также необходимо отметить, что люди в своем поведении исходят в основном из субъективной оценки уровня жизни, на которую в свою очередь влияет не только доход, но и уровень притязаний в отношении него.
Связь между уровнем доходов, социальным статусом и продолжительностью жизни была замечена уже давно. Считалось, что чем выше доход или социальный статус, тем выше показатель продолжительности жизни. Ныне эта теория подвергается сомнению.
Самый высокий уровень трудовых доходов, по данным выборки, полученной после проведения исследования москвичей вначале 2000-х, – в системе финансов и страхования, а также в компаниях с участием иностранного капитала. Во всех сферах с более высокой заработной платой и крепким здоровьем преобладают мужчины. Доля женщин больше в сфере обслуживания (56%), науке, образовании, культуре, искусстве (54%), здравоохранении, физкультуре и социальных услугах (69%). Чем больше трудовой доход работника, тем лучше здоровье, но существуют исключения, например, работники предприятий с участием иностранного капитала, где преобладают мужчины (71%), имеют самый высокий трудовой доход и хорошо оценивают свое здоровье, однако по объективным показателям можно сделать вывод, что их самооценка здоровья существенно завышена. Как правило, умственное напряжение и его сочетание с психо-эмоциональными нагрузками, стрессом отмечают работники, находящиеся в верхней децильной группе по величине трудового дохода (с учетом выполнения всех оплачиваемых видов деятельности). И это в какой-то степени объясняет причину низкой удовлетворенности жизнью работников компаний с иностранным капиталом. В государственных (муниципальных) предприятиях, организациях самые маленькие доходы, больше доля женщин и самый низкий уровень здоровья работников. Итак, по результатам обследования наиболее крепкое здоровье, редкие жалобы наблюдаются у занятых индивидуальным предпринимательством и в компаниях с иностранным капиталом. Следовательно, человек с нарушениями здоровья индивидуальным предпринимательством не займется, а будет искать работу в государственном секторе. Таким образом, происходит «естественный отбор» людей с высоким уровнем здоровья в секторе индивидуального предпринимательства и на работе в компаниях с иностранным капиталом. Работодатели, готовые предложить высоко оплачиваемый труд, отбирают не только наиболее образованных, квалифицированных, но и наиболее здоровых и выносливых работников [6, С.96-99].
Эксперт Международной организации труда Грегори Роджерс в исследовании «Доход и неравенство как детерминанты смертности» показал, что в странах, где не существует значительного расслоения общества на очень богатых и очень бедных, средняя продолжитель- ность жизни населения на порядок выше (на 5-10 лет), чем в странах с менее справедливой экономической системой. Однако разница в получаемом трудовом доходе не является единственной причиной подобного расхождения в долголетии. Дело в том, что более обеспеченные слои населения имеют больший доступ к медицинским, образовательным и другого рода социальным услугам [14].
Социально-экономическое развитие России в последние двадцать лет отмечено усилением дифференциации доходов населения. В определенной степени усиление дифференциации населения по уровню доходов было неизбежным, поскольку одной из задач реформирования было установления тесной взаимосвязи между результатами труда и доходами. Для подавляющего большинства россиян заработная плата сегодня основной, а часто и единственный источник денежных доходов. Размер и динамика заработной платы определяются политикой предприятия в этой области, находятся под воздействием инфляции, изменений среднего уровня оплаты труда в отрасли, регионе, минимального размера оплаты труда, конъюнктуры рынка труда и др. Минимальная заработная плата не обеспечивает нормальные условия для воспроизводства работников, занятых простым неквалифицированным трудом. Чтобы поддерживать физическую активность, воспроизводить способность трудиться и обеспечивать развитие людей, она должна соответствовать потребительской корзине, включающей в себя необходимый набор продуктов, товаров и услуг [5].
Важным фактором, влияющим на интенсивность демографических процессов, является уровень занятости. Как показывают исследования, проведенные в зарубежных странах с традиционно развитыми рыночными отношениями, уровень занятости серьезно сказывается на уровне регистрируемой брачности и числе рождений в семьях. Рост безработицы ведет к отказу не только от вторых и третьих, но и от первых детей, т.е. к увеличению не только интергенетических, но и протогенетических интервалов рождений. Однако большая занятость женщин в общественном производстве существенно осложняет их возможность участвовать в воспитании детей, часто приводит к своеобразной конкуренции детородной и трудовой функций женщины. Вовлечение женщин в общественное производство, привело к росту доли женских доходов в домохозяйстве, к усилению эффекта замещения количества детей качеством. Рост заработной платы женщин перераспределяет ресурсы домохозяйства, ориентированные на детей, и в первую очередь время, в пользу рынка труда. Динамика занятости и специфика труда воздействуют не только на рождаемость, но и на интенсивность процессов смертности. Исследования, проведенные в Германии, показали: рост безработицы на 1% сопровождается увеличением числа убийств на 5,7%, самоубийств – на 4,1%, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и цирроза печени – на 1,9%. И в нашей стране наблюдается рост алкоголизма, самоубийств, особенно среди безработных [7, СС. 29-30].
Но и среди занятых причиной смертности может быть профессиональное заболевание, производственная травма. В структуре причин травматизма производственный травматизм находится на третьем месте.
Социально-экономическая значимость травм, отравлений и других несчастных случаев подтверждается высокими показателями временной утраты трудоспособности. По данным Министерства здравоохранения и социального развития РФ, временная утрата трудоспособности в 2002 г. вследствие травм среди всех ее причин занимала второе место и за последние 5 лет возросла на 12,7%, составив 5,4 случаев и 116,0 дней на 100 работающих. По результатам обращений в лечебно-профилактические учреждения, уровень травматизма и отравлений у взрослых составляет 8266 случаев на 100 тыс. населения. В целом по стране в 2005 г. абсолютное число случаев временной нетрудоспособности вследствие этих причин достигло 2 808 610 случаев с потерей 62 031 331 рабочих дней. На 100 работающих число временной нетрудоспособности, обусловленной травмами, отравлениями и некоторыми другими последствиями внешних причин, равнялось в целом по стране 5,7 случаев с колебаниями в разных субъектах РФ от 2,2 (Москва) до 9,6 (Республика Хакасия). С 2000 по 2005 гг. число случаев временной утраты трудоспособности в связи с травмами на 100 работающих уменьшилось с 6,4 до 5,7, несмотря на то, что общий показатель травматизма в этот период повысился. Средняя длительность одного случая временной нетрудоспособности при травмах превысила средний общий уровень для всех заболеваний с временной нетрудоспособностью. На протяжении 2000-2005 гг. длительность одного случая временной нетрудоспособности в результате травм (за исключением поверхностных) постоянно увеличивалась [1]. В целях снижения профзаболеваний и травматизма на производстве необходимо осуществлять программы по сокращению ручного труда и оздоровлению условий труда.
В настоящее время взаимозависимость и взаимообусловленность демографических процессов с социально-экономическим развитием общества рассматривается по нескольким направлениям. Согласно одному из них исследования ведутся на микроуровне. Соотношение социального и биологического в отдельных демографических процессах изучаются первоначально на уровне индивида через семью. Микроанализ включает проблему экономики домохозяйства, экономическое исследование брачно-семейных отношений, рождаемости и продолжительности жизни.
Перспективным направлением в экономической демографии является разработка имитационных моделей показывающих взаимосвязь экономических и демографических процессов, как в стране в целом, так и в ее регионах. Это направление исследует на макроуровне взаимодействие разных сторон общества с демографическими процессами, учитывают особенности культурного, политического и экономического развития общества. Возрастание интереса к проблеме государственного регулирования социально-экономического развития послужило толчком к разработке макроэкономических теорий, на базе которых стало развиваться экономико-демографическое моделирование.
Механизм взаимосвязи населения и экономики и опосредующие его факторы могут быть формализованы с помощью моделей разной степени сложности.
Развитие экономико-демографических моделей шло в направлении определения взаимосвязей между тенденциями рождаемости с одной стороны и потреблением, сбережением, занятостью и доходом на душу населения – с другой.
В экономике народонаселения наиболее разработанными моделями считаются модели Харрода-Доммара, Коула-Гувера, Нельсона и Лейбейнштейна.
В модели Р. Харрода и Е. Доммара в качестве основного фактора экономического развития общества рассматривается наряду с техническим прогрессом, открытием новых ресурсов и динамика народонаселения. Модель Харрода и Даммара определяла взаимосвязь между тенденциями рождаемости, с одной стороны, и потреблением, сбережением, занятостью и доходами на душу населения – с другой [10] . В 1958 г. вышла книга американских ученых А. Коула и Э. Гувера «Рост населения и экономическое развитие в странах с низким уровнем дохода». Главная цель этой работы – исследование экономических последствий снижения рождаемости на примере Индии и обоснование демографической политики. На основе модели авторы делают вывод о крупных экономических издержках высокой рождаемости. На примере Индии они показали, что темпы роста дохода на душу населения замедляется при предположении высоких темпов роста населения и ускоряется при их снижении.
Зависимость между ростом населения и уровнем среднедушевого дохода рассматривается также в моделях представителей неоклассической школы Р. Нельсона, X. Лейбенштей-на, Э. Фелпса и др.
Р. Нельсон, используя экономический подход к объяснению демографических процессов, предполагал, что рабочая сила пропорциональна населению, а также факторы производства, как земля и капитал, взаимозаменяемы. Следующее условие модели: сначала увеличение темпа роста населения происходит только за счет снижения смертности, затем намечается его стабилизация при постоянном росте дохода на душу населения. Влияние роста уровня дохода на душу населения на снижение смертности возможно до тех пор, пока доход не достигнет определенной величины, после чего его воздействие на уровне смертности снижается. Нельсон приходит к выводу, что увеличение дохода населения возможно лишь при условии, если темпы формирования капитала превысят темпы роста численности населения, причем возрастание дохода будет нейтрализовано приростом населения.
X.Лейбенштейн в своей модели рассматривает рост численности населения не только как следствие рождаемости и смертности, но и дохода, который рассматривается как показатель уровня жизни. Между смертностью и доходом существует обратная связь, т.к. в результате повышения доходов улучшается питание, санитарно-гигиенические условия жизни и т.д., что приводит к снижению смертности. Рождаемость определяется более широким кругом факторов, но до определенного момента преобладает стремление к увеличению детей в семье. После достижения этого момента при дальнейшем росте доходов рождаемость будет снижаться. Ключевое положение концепции Лейбенштейна заключалось в том, что «квазистабильное равновесие», характерное для отсталой экономики, при которой обеспечивается лишь минимум средств существования, может быть преодолено лишь при изменении уровня накопления капитала, техническом прогрессе, что, в конечном счете, приводит к увеличению доходов, а, следовательно, к росту потребления, давлению на ресурсы и росту численности населения, в результате чего снова происходит снижение доходов, и экономика возвращается к равновесному состоянию, характеризуемому минимумом средств существования [7, C. 52].
Экономический подход рассматривает динамику рождаемости, в контексте рационального поведения индивида исходя из максимизации функции полезности, построенной для домохозяйства, оценок текущих и будущих изменений его экономического благосостояния, связанных с рождением ребенка, и трактовки «цены» ребенка как отражения альтернативных издержек использования редких ресурсов (например, человеческого времени). В рамках «экономического» подхода выделяются два альтернативных направления. Одно из них (модель Чикагской школы) основано на модели цены времени и предложений о стабильности и экзогенной определенности предпочтений (в том числе в отношении размера семьи) и рассматривает изменение поведений (в данном случае – репродуктивного) как результат возможностей. Данное направление наиболее последовательно и подробно представлено в работах Г. Беккера. Второе направление (модель Пенсильваноской школы) основано на концепции относительного дохода и предположении об эндогенной определенности предпочтений и их зависимости от систематически меняющихся возможностей. Наиболее полно данное направление представлено в работах Р.Истерлина [11, С.152].
По расчетам Беккера рождаемость остается высокой в условиях, когда воспитание детей дешево, а их производительность высока. При этом высокая отдача от детей стимулирует родителей максимизировать их число и минимизировать вложение в их человеческий капитал (так называемый эффект дохода). Эффект дохода доминируют в условиях, когда число единиц товаров и услуг, затраченных на воспитание детей, представляют собой преобладающую часть расходов. В противном случае, когда число единиц товаров и услуг, затраченных на воспитание детей невелики по сравнению с прямыми затратами на обучение детей и потерями времени на их воспитание, доминируют так называемый эффект замещения (количества детей их качеством). По мере экономического развития подъем среднедушевого дохода приводит к повышению стоимости времени, затрачиваемого на воспитание детей, и относительному снижению расходов на питание, одежду и жилье для детей.
Модель Г. Беккера показывает, что рождаемость тесно связана с уровнем среднедушевого дохода. Поэтому в развивающихся странах с небольшим запасом человеческого капитала уровень рождаемости выше, чем в экономически развитых странах с большим запасом человеческого капитала. Снижение рождаемости к снижению дисконтной ставки, с помощь которой оценивается будущее потребление, и повышению доходности инвестиций в человеческий капитал. Действие этих тенденций обуславливает рост инвестиций в человеческий капитал детей, в результате чего включается механизм последующего снижения рождаемости [11].
К разработанной Г. Беккером модели рождаемости примыкает модель рождаемости, предложенная Т.П. Шульцем для стран с высоким уровнем дохода на душу населения. Результаты построения Т.П. Шульцем эконометрической модели свидетельствуют о том, что во всех возрастных группах увеличение заработной платы жены способствует снижению рождаемости, тогда как влияние роста заработной платы мужа изменяется в течение жизненного цикла: в более младших возрастах (18-34 года) оно позитивное, а в более старших возрастах (35-64 года) – негативное. Таким образом, повышение заработной платы мужа способствует сдвигу рождений в младшие возраста. Для рассмотренной совокупности в целом присуща тенденция к увеличению модуля суммы регрессионных коэффициентов при переменных заработной платы жены и мужа, тогда как знак этой суммы неизменно остается отрицательным, что свидетельствует о негативном влиянии суммарного роста заработной платы на уровень рождаемости. Что касается влияния так называемого «незаработанного дохода», то ни в одной возрастной группе не отмечено его статистически существенного отклонения от нулевого при уровне значимости 5% [11].
Взаимосвязь роста дохода домохозяйства и снижения рождаемости представлена в концепции «относительного дохода» Р. Истерлина [12], в которой рассматриваются относительные доходы разных поколений. Используя предположение о том, что работники разных возрастов не являются абсолютными субститутами в производстве, Истерлин, утверждает, что чем более многочисленна когорта, тем меньшим совокупным доходом она располагает, тем большее давление она оказывает на рынок труда, тем ниже рождаемость. Малочисленная когорта располагает большим доходом, свободными вакансиями и повышает свою рождаемость, формируя следующую многочисленную когорту, которая будет иметь меньший доход на одно домохозяйство. В конечном итоге рост доходов влияет на снижение рождаемости.
Однако, модели Г. Беккера и Р. Истерлина не могут служить универсальным объяснением колебаний в уровнях рождаемости, которые мы наблюдали на протяжении прошлого века. Экономический рост в развитых странах в последние десятилетия прошлого века не повлек за собой повышение рождаемости.
Экономическая модель здоровья и долголетия, основанная на теории человеческого капитала и описывающая текущие изменения здоровья и продолжительности жизни как результат индивидуального выбора, вплоть до настоящего времени остается разработанной сравнительно слабее, чем экономическая модель рождаемости. Среди исследований, посвященных данной проблематике, необходимо выделить модели спроса на долголетие и стоимости увеличения продолжительности жизни (Гроссман М., Эрлих И. и др.).
Модель М. Гроссмана [13] показывает, что, максимизируя полезность своего дохода, индивид «выбирает» продолжительность собственной жизни. Другими словами, инвестируя в собственное здоровье, индивид может делать выбор между уровнем жизни и ее продолжительностью. Увеличение продолжительности жизни означает добавление дополнительных периодов эффективной деятельности индивида или увеличение возможности пережить будущие периоды. При этом единственное необходимое допущение состоит в том, что существуют некоторые технологии, позволяющие преобразовать основные экономические ресурсы в предельные приращения продолжительности жизни. Результаты построения модели по данным США (запас здоровья оценивался по результатам самооценок) свидетельствуют о том, что образование и заработная плата оказывают позитивное и статистически значимое влияние на спрос на здоровье; увеличение возраста одновременно приводит к снижению запаса здоровья и повышению медицинских расходов [11].
Иногда, даже хорошо задуманные общегосударственные программы оказываются неудачными только потому, что не все необходимые для анализа факторы были учтены. Поэтому, основное значение рассмотренных макроэкономических моделей заключается в том, что они могут быть использованы при построении таких государственных социальнодемографических программ.
Целями демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. являются стабилизация численности населения к 2015 г. на уровне 142-143 млн человек и создание условий для ее роста к 2025 г. до 145 млн человек, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 г. до 70 лет, к 2025 г. – до 75 лет.
Правильное воздействие на социально-демографические процессы выявленных факторов труда может способствовать реализации этих целей. А также решению широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам (повышение минимальной оплаты труда), снижение безработицы, улучшение условий труда, создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда и т.д.
* * *
-
1. Андреева, Т. М. Травматизм в Российской 7. Секретарев В.С. Экономика народонаселе-
- Федерации в начале нового тысячелетия / Т. М. ния. Изд. Марийского гос. ун-та. – Йошкар-Ола,
Андреева, Е. В. Огрызко, И. А. Редько // Вестн. 2008. – 140 с.
2007. - № 2. - СС. 59-63. нах богатства народов. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.
-
2. Архангельский В.Н. Факторы рождаемости. 9. Струмилин С. Г. К проблеме рождаемости в
– М. : ТЕИС, 2006. - 399 с. рабочей среде. – Избр. произв. Том 3. М., 1964 с. 142
-
3. Борисов В.А.. Перспективы рождаемости. 10. Харрод, Р.; Хансен, Э. Классики кейнсиан-
М.: Статистика, 1976. – 249 с. ства. Том 2. М.: Экономика, 1997. – 845 с.
-
4. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание 11. Экономика народонаселения: под ред. В.А.
-
5. Римашевская Н.М. Человек и реформы: Сек- Basic Books, 1987.
-
6. Сбережение народа; В.К. Бочкарева и др. Handbook of Health Economics / Ed. by A.J. Culver,
Под ред. Н. М. Римашевской ; РАН, Институт со- J.P. Newhouse. Vol. 1A. Amsterdam: Elsevier, 2000.
травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. - 8. Смит А. Исследование о природе и причи-
второе. Том 23. М.: Государственное издание Ионцева. – М.: Инфра-М, 2007. – 668 c.
политической литературы, 1960. – 908 с. 12. Easterlin R. A. Birth and Fortune. - NewYork:
реты выживания. М.: РИЦ ИСЭПН, 2003.- 392 с. 13. Grossman M. The Human Capital Model //
циально-экономических проблем народонаселе- 14. Rodgers, G.B. Income and Inequality as De- ния. - М.: Наука, 2007 - 326 с. terminants of Mortality: An International Cross
Section Analysis // Population Studies. 1979. Vol. 33.
Issue 2. pp. 343-351.
Список литературы Влияние трудовых факторов на социально-демографические процессы
- Андреева, Т. М. Травматизм в Российской Федерации в начале нового тысячелетия / Т. М. Андреева, Е. В. Огрызко, И. А. Редько // Вестн. травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. - 2007. - № 2. - СС. 59-63. EDN: IAYQEH
- Архангельский В.Н. Факторы рождаемости. - М.: ТЕИС, 2006. - 399 с. EDN: QOPDZV
- Борисов В.А.. Перспективы рождаемости. М.: Статистика, 1976. - 249 с.
- Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Том 23. М.: Государственное издание политической литературы, 1960. - 908 с.
- Римашевская Н.М. Человек и реформы: Секреты выживания. М.: РИЦ ИСЭПН, 2003.- 392 с.