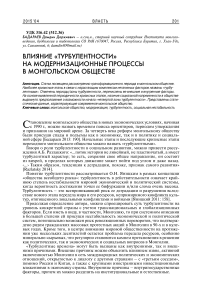Влияние «турбулентности» на модернизационные процессы в монгольском обществе
Автор: Бадараев Дамдин Доржиевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 4, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению трансформационного периода в монгольском обществе. Наиболее кризисные этапы в связи с нарастающим комплексом негативных факторов названы «турбулентными». Отмечены периоды/зоны турбулентности, перечислены ее внешние и внутренние факторы. На основе выявленной периодичности кризисных этапов, наличия социальной напряженности в обществе выдвинуто предположение о возможности начала «четвертой зоны турбулентности». Представлены статистические данные, характеризующие современное монгольское общество.
Монгольское общество, модернизация, турбулентность, социальная нестабильность
Короткий адрес: https://sciup.org/170167891
IDR: 170167891 | УДК: 316.42
Текст научной статьи Влияние «турбулентности» на модернизационные процессы в монгольском обществе
С тановление монгольского общества в новых экономических условиях, начиная с 1990 г., можно назвать временем поиска ориентиров, периодом утверждения и признания на мировой арене. За четверть века реформ монгольскому обществу были присущи спады и подъемы как в экономике, так и в политике и социальной сфере [Бадараев 2013: 190]. Начальные этапы и последующие кризисные этапы переходного монгольского общества можно назвать «турбулентными».
Говоря о роли турбулентности в социальном развитии, можно привести рассуждения А.Б. Разлацкого: «…поток истории не линейный, не пластинчатый, а имеет турбулентный характер; то есть, сохраняя свое общее направление, он состоит из вихрей, в пределах которых движение может пойти под углом и даже назад. ‹…› Таким образом, тенденция к деградации, похоже, признак самого развития» [Razlatsky 2014].
Понятие турбулентности рассматривается О.Н. Яницким в рамках концепции «общества всеобщего риска»: турбулентность в действительности означает крайнюю степень нестабильности мировой экономической и политической системы, когда вероятность достижения точки ее бифуркации и/или слома очень высока. Турбулентность – это всепроникающий риск ее деградации и разрушения вследствие нового этапа передела мира и его ресурсов, непримиримого конфликта культур, отягощенного локальными конфликтами и войнами [Яницкий 2011: 158].
Продолжая определение автора, можно спроецировать суть турбулентности на уровень конкретной страны с учетом транснациональных и глобализационных факторов. Если иметь в виду, в частности, Монголию, то при системном описании в большей степени ей присущи нестабильность экономической и политической систем, потенциально возможен риск революционных переворотов, что подтверждено рядом гражданских массовых протестных акций в Монголии в 90-х и в нулевых годах. Кроме того, в центре внимания мировой общественности на протяжении уже нескольких десятилетий остается проблема передела ресурсов, особенно минерально-сырьевых, что регулярно становится камнем преткновения в решении как политических, так и экономических и социальных вопросов в Монголии.
«Турбулентные времена» могут быть вызваны как внутренними, так и внешними причинами. Внешние причины можно объяснить влиянием извне, активной включенностью Монголии в сеть международных политических и экономических отношений, открытостью к диалогу с другими странами – с «третьим соседом», помимо России и Китая, а также с крупными иностранными инвестиционными вложениями в экономику страны. Внутренние причины – внутригосударственные факторы, причем их можно разделить на институциональные и естественные.
Если внутренние институциональные причины вызваны политической, экономической нестабильностью и кризисами в Монголии, то естественные причины подразумевают наличие демографических и природно-климатических факторов. Естественные причины турбулентности имеют большое значение, особенно для такой специфической страны, как Монголия. Первый аспект – демографический, второй – традиционно-хозяйственный. Что касается первого аспекта, то, как отмечает А.Б. Разлацкий, «прирост населения служит естественным источником тенденции ухудшения условий [существования], т.к. возникает необходимость разделения естественного богатства между растущим числом потребителей. ‹…› Следовательно, в целом важную роль в социальных процессах играет простой прирост населения c концентрацией населения в особой области» [Razlatsky 2014]. В демографическом плане, как известно, Монголия относится к числу малозаселенных стран мира. Плотность населения составляет 1,8 чел. на кв. км территории. В феврале 2015 г. в стране преодолен 3-миллионный рубеж численности населения. Проблема перенаселенности напрямую касается урбанизированного мегаполиса Улан-Батора (290 чел. на кв. км) с его возрастающими потребительскими запросами и темпами естественного и миграционного прироста населения. Улан-Батор стал центром притяжения и жизнедеятельности почти половины населения страны – по неофициальным данным население столицы достигает 1,5 млн чел., а по данным органов статистики в г. Улан-Баторе проживали в 2013 г. 1 372,1 тыс. чел., т.е. 46,8% населения страны 1 (см. табл. 1) [Батбаяр, Галиймаа 2010: 225].
Таблица 1
Численность постоянных жителей г.Улан-Батора, тыс. чел.
|
Данные официальной статистики по годам |
|||||||||
|
1956 |
1963 |
1969 |
1979 |
1989 |
2000 |
2008 |
2010 |
2012* |
|
|
Численность жителей г.Улан-Батора |
118,4 |
223,7 |
267,4 |
402,3 |
584,3 |
760,1 |
1071,0 |
1158,7 |
1232,3 |
* Статистический ежегодник Монголии. Улан-Батор. 2013. С. 80 .
Процессы урбанизации привели к появлению огромного числа экологических, социально-экономических, социокультурных проблем, которые стали объектом внимания не только мэрии столицы, но всего руководства страны [Галиймаа 2011: 6]. Данная картина, если опираться на простое объяснение ограниченности ресурсов для возрастающего числа потребителей, таит в себе потенциальную угрозу социального взрыва, появления турбулентности в зонах скопления критических масс.
Второй аспект – традиционно-хозяйственный. Роль номадизма как основы традиционной отрасли экономики Монголии является важнейшей основой сохранения обычаев, быта и традиций монгольских кочевников. Численность сельского населения составляет 934,6 тыс. чел., из них по данным 2013 г. численность животноводов составила 285,7 тыс. чел., а число их семей – 145,3 тыс. чел. В совокупности они дают 14,5% ВВП и по значимости идут сразу после горнодобывающей промышленности (20,2%)2. Данный вид хозяйствования, несмотря на экологичность, остается самым рискованным видом деятельности, всецело зависящим от природно-климатических условий, т.к. практически весь монгольский скот содержится на пастбищном скотоводстве. Вот почему после засушливых сезонов, снежных зим, гололедицы (дзута) потери поголовья скота Монголии достигают десятков миллионов голов, что напрямую влияет на социальный статус скотоводов. Потерявшие поголовье скота бывшие араты-скотоводы вынуждены пополнять ряды безработных, люмпенизированных категорий населения, часть из них вынуждены искать пути выхода из сложившейся ситуации в миграции, реализуя конституционное право на перемещение внутри страны и за ее пределы. Зачастую единственным вариантом становится переезд в города, в крупные населенные пункты или столицу страны со всеми вытекающими не только положительными, но и негативными последствиями.
На самом деле любой фактор представляет собой потенциальную причину нарушения хрупкого баланса, но когда в оборот включаются несколько факторов, тогда процесс может приобрести характеристику неуправляемости, неопределенности, т.е. турбулентности.
Монголия попала в мощнейшую зону турбулентности в конце 80-х – начале 90-х гг. С распадом социалистической системы еще более усилились процессы «завихрения», что подтверждают как статистические данные, так и результаты социологических исследований [Монголы… 2007: 17]. Одновременно принимались доктрины нового независимого государства, основанного на подлинной демократии и рыночной экономике [Изменения… 2008: 247]. В стране отмечается ряд негативных социально-экономических явлений, которые стали последствиями «шоковой терапии» и перехода к рыночной форме хозяйствования. В качестве последствий развала производственной сферы и приватизации государственной собственности массы людей испытали на себе ценностный шок, морально-нравственный кризис. По результатам мониторинговых исследований, проведенных Институтом философии, социологии и права АНМ в 1991–1994 гг., выявлено, что 40–50% опрошенных практически постоянно давали все возрастающие негативные оценки своей жизнедеятельности и политической обстановки в стране [Жизнь… 2007: 121]. На начальном этапе реформ были подорваны основы функционирования производственной сферы, все четче вырисовывались негативные очертания общественного обустройства Монголии – бедность, безработица, галопирующая инфляция, коррупция, нерегулируемая миграция, рост уровня преступности, рост уровня смертности при снижении уровня рождаемости и т.д.
Рассматривая наиболее критические периоды в развитии «новой Монголии» за последние четверть века с учетом политических, экономических и социальных факторов, можно условно выделить следующие турбулентные зоны/этапы.
-
1. Первая турбулентная зона (1991–1993 гг.) связана с резким прекращением советского экономического патронажа, приватизацией, инфляцией: производство ВВП упало на более чем 30% (в 1991 г. его прирост составил –9,2%); почти ¼ часть населения оказалось за чертой бедности; численность безработных составила более 70 тыс. чел., уровень инфляции в 1992 г. достиг 325% [Грайворонский 2007: 19].
-
2. Вторая турбулентная зона (1998–2000 гг.) связана с последствиями неудачного опыта демократов: отставка правительства демократов, «политическая нестабильность из-за почти ежегодной смены премьеров и состава правительства, слабость экономической политики, в результате чего положение страны на конец 1999 г. по ряду показателей – внутренней и внешней задолженности, бюджетному дефициту, внешней торговли и др. – стало хуже, чем в 1966 г.» [Гольман 2013: 46]; финансовый кризис 1998 г.; сильнейший дзут 1998–1999 и 1999–2000 гг., в результате которого потери скота составили до 10 млн голов, что повлекло за собой рост социальной напряженности.
-
3. Третья турбулентная зона (2008–2010 гг.) связана с июльской революцией 2008 г.: тогда в ходе беспорядков погибли 5 чел., 300 чел., в т.ч. 100 полицейских, получили ранения, 760 чел. были арестованы; было создано коалиционное правительство во главе с демократами [Гольман 2009: 44]. Финансовый кризис 2008 г. привел к снижению ВВП в 2009 г. до –1,3%, в результате сильнейшего дзута 2009–2010 гг. потери скота, по разным оценкам, составили до 8 млн голов.
Хотя весь период новейшей истории Монголии связан с многочисленными казусами и перипетиями, все же выделенные этапы представляются наиболее критическими, когда воедино слились комплексы негативных факторов. Выход из этих зон сопровождался смягчением степени совокупной напряженности, хотя каждый этап имел самые тяжелые последствия для населения Монголии, особенно для простых граждан – скотоводов, представителей интеллигенции, вновь сформировавшихся коммерческих структур. Каждый последующий турбулентный этап преодолевался на качественно новом уровне, поэтому можно констатировать прогрессивный характер становления монгольского общества, сопровождающийся ростом доходов и постепенным ростом ВВП страны. Так, рост ВВП Монголии уже в 2010 г. составил 6,4%, в 2011 г. – 17,5%, в 2012 г. – 12,4%, в 2013 – 11,7%1.
Темпы экономического роста Монголии за последние несколько лет, политика, основанная на принципах «многоопорности» и «третьего соседа», дают основания полагать, что, несмотря на кризисные колебания в мировой экономике и нестабильность политического мироустройства, страна неуклонно стремится к выравниванию курса развития страны в направлении демократии, развитого гражданского общества, политического плюрализма, где высшей ценностью является человек.
Тем не менее практика показывает, что турбулентность для монгольского общества является неоспоримой константой, так же как и для многих других обществ переходного периода. Данная характеристика расшатывает основы поступательного развития общества, демонстрирует элементы неопределенности, низкой социальной стабильности и устойчивости развития. Экономика Монголии, базирующаяся на минерально-сырьевой основе, уязвима и всецело зависима от мировых закупочных цен на природные ресурсы. Еще один фактор турбулентности – низкая финансовая самостоятельность страны; в связи с углубляющейся «долговой ямой» возникает еще большая зависимость Монголии от кредитно-денежной политики МВФ, Мирового банка, Азиатского банка и зарубежных стран-доноров.
Турбулентность в социальных процессах имеет противоречивый, нестабильный и неупорядоченный характер, поэтому и для современного этапа Монголии не исключены возможности наступления нового «турбулентного этапа», что может быть связано как с внутренними причинами, так и с известными кризисными явлениями в мировой экономической и политической системе. Монголия вынуждена лавировать, придерживаться многовекторной политики, стараясь «удержаться на плаву», при этом стремясь сохранить свое «политическое лицо» и достойный имидж на мировой арене. Отмеченные зоны/этапы турбулентности продемонстрировали закономерность с 7–8-летним циклом, но все же имеющиеся проблемы дают основания полагать, что нарастающие «завихрения» могут перерасти в очередную – четвертую – зону турбулентности.
Несмотря на пессимистические прогнозы, Монголия имеет немалый опыт преодоления подобных кризисных явлений: существует широко развитая сеть поддерживающих стран-доноров, экономика страны последних лет дает только положительные цифры. Поэтому появление подобных «турбулентных зон» должно только укрепить позиции Монголии в международной политической и экономической системе и дать толчок дальнейшему позитивному росту и развитию в новых условиях глобализации современного мироустройства.
Работа выполнена в рамках гранта РНФ №14-18-00552 «Монгольские народы: исторический опыт трансформации кочевых сообществ Азии».
Список литературы Влияние «турбулентности» на модернизационные процессы в монгольском обществе
- Бадараев Д.Д. 2013. Модернизация монгольского общества: социальные аспекты. -Власть. № 2. С. 188-191
- Батбаяр Т., Галиймаа Н. 2010. Внутренняя миграция: нынешнее положение и возникшие проблемы (на примере Улан-Батора 1990-2008 гг.). -Азиатская Россия: миграции, регионы и регионализм в исторической динамике: сборник научных статей. Иркутск: Оттиск. С. 223-231
- Галиймаа Н. 2011. Внутренняя миграция населения в 1990-2010 гг. на примере г. Улан-Батора (на монг.яз.). -Монголия на перекрестке внешних миграций. Улан-Батор. С. 5-9
- Грайворонский В.В. 2007. Реформы в социальной сфере современной Монголии. М.: ИВ РАН. 254 с
- Гольман М.И. 2009. Монголия. Долгое эхо бурного лета 2008-го. -Азия и Африка сегодня. № 3. С. 43-48
- Гольман М.И. 2013. Монголия. Демократы снова у власти. -Азия и Африка сегодня. № 3. С. 43-48
- Жизнь страны во взглядах общественности (на монг. яз). 2007. Улан-Батор. 176 с
- Изменения в монгольском обществе (на монг. яз.). 2008. Улан-Батор. 512 с
- Монголы в зеркале социологии. 2007. Улан-Батор. № 3. 51 с
- Яницкий О.Н. 2011. «Турбулентные времена» как проблема общества риска. -Общественные науки и современность. № 6. С. 155-164
- Razlatsky A.B. 2014. Turbulence in Social Development and the Stratification of the Superstructure. Доступ: http://proletarism.org/abr_turb.shtml (проверено 07.03.2015)
- Статистический ежегодник Монголии. Улан-Батор. 2014. С. 30.
- Статистический ежегодник Монголии. Улан-Батор. 2014. С. 208.
- Статистический ежегодник Монголии. Улан-Батор. 2014. С. 207.