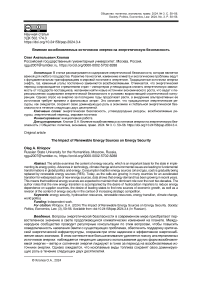Влияние возобновляемых источников энергии на энергетическую безопасность
Автор: Хлопов О.А.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается содержание энергетической безопасности, которая является важной для любого государства. Развитие технологий, изменение климата и экологические проблемы ведут к фундаментальным трансформациям в мировой политике и энергетике. Традиционные источники энергии (нефть, газ, каменный уголь) постепенно заменяются возобновляемыми. Отмечается, что энергетический переход сопровождается стремлением стран - импортеров углеводородов снизить энергетическую зависимость от государств-поставщиков, желанием найти новые источники экономического роста, что ведет к переосмыслению содержания энергетической безопасности в условиях возрастающей стратегической конкуренции. Однако спрос на энергию за последние годы продолжает расти, а внедрение альтернативных ее источников требует времени и финансовых затрат. Это означает, что традиционные энергетические ресурсы, как ожидается, сохранят свою доминирующую роль в экономике и глобальной энергетической безопасности в течение следующих двух десятилетий.
Энергетическая безопасность, углеводородные ресурсы, возобновляемые ресурсы, энергетический переход, мировая политика
Короткий адрес: https://sciup.org/149145327
IDR: 149145327 | УДК: 502.174.3 | DOI: 10.24158/pep.2024.3.4
Текст научной статьи Влияние возобновляемых источников энергии на энергетическую безопасность
Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия, ,
В последнее время появилось много исследований по вопросам интеграции возобновляемых источников энергии в энергетический баланс в качестве приоритетной меры решения проблемы энергетической безопасности и изменения климата1. Политика в области энергетики и энергетическая безопасность развитых и развивающих государств нацелены на создание низко-углеродной экономики для смягчения последствий изменения климата. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата (Парижское соглашение по климату, подписанное в 2015 г.2) требует, чтобы страны реализовывали свои национальные программы для удержания роста средней глобальной температуры ниже 2 °C.
В то время мировое сообщество стремится к скорейшему переходу на новые источники энергии, спрос на традиционные ее виды продолжает расти ввиду значительной энергоемкости современных производств, обеспечить которую из возобновляемых источников пока не удается полностью. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на газ в 2024 г. вырастет на 2,5 % (или на 100 млрд куб. м) и составит 4,19 трлн куб. м; при этом ожидается, что рост продаж на рынках импортеров будет скован ограниченным увеличением мировых поставок СПГ, которые вырастут всего на 3,5 % (или на 18 млрд куб. м)3. Согласно оценкам аналитиков МЭА, мировой спрос на нефть в 2024 г. вырастет меньше, чем в 2023 г. из-за замедления экономического роста в Китае и многих других частях мира, потребление «черного золота» увеличится на 1,2–1,3 млн барр. в день и может достигнуть общей отметки в 104 млн барр. в день. Мировой спрос на электроэнергию будет ежегодно расти на 3 % в 2023–2025 гг.4
Цель настоящей статьи состоит в изучении роли возобновляемых источников энергии в формировании энергетической безопасности на фоне глобальной социально-экономической неопределенности. Для ее достижения мы обратились к рассмотрению эволюции определения энергетической безопасности, с тем чтобы пересмотреть ключевые ее компоненты, включая физическую и экономическую доступность источников энергии, их экологическую приемлемость.
Теоретико-методологические подходы к проблеме . Энергетическая безопасность широко понимается как сложное, многомерное явление, которое не поддается простому определению. Одни исследователи критикуют ранние трактовки данного термина, отмечая их относительно упрощенную логику, в рамках которой энергетическая безопасность в первую очередь понималась с точки зрения доступности источников энергии (Chester, 2010). Другие ученые отмечают, что данный вид национальной безопасности – это синергетическая концепция, основанная на нескольких взаимосвязанных измерениях и представляющая собой сложную экосистему, состоящую из отдельных видов источников энергии и их взаимодействия. Авторитетные эксперты в области энергетики Б.К. Совакул и И. Мукерджи выделяют несколько аспектов энергетической безопасности: доступность, технологическое развитие (то есть способность адаптироваться к изменениям), устойчивость схемы регулирования (Sovacool, Mukherjee, 2011). Л. Хьюз указывает на то, что энергосбережение является ключевым компонентом энергетической безопасности (Hughes, 2009).
Хотя эти определения отличаются друг от друга, между ними есть и общее. В каждом из них признается, что надежные и доступные энергетические услуги необходимы для поддержания стабильного развития национальных экономик. Энергетическая безопасность является жизненно важным элементом устойчивости государства, и ее значимость постоянно возрастает из-за новых вызовов, таких как кибер- и гибридные угрозы для инфраструктуры, а также энергетического кризиса, вызванного санкционной политикой Запада в отношении России.
Энергетическая безопасность означает наличие стабильного доступа к источникам энергии на своевременной, устойчивой и гарантированной основе. Доступ к энергии имеет решающее значение не только для удовлетворения основных потребностей, например, в продуктах питания, освещении, воде и медицинских услугах, но и для экономического роста, политической стабильности5.
Глобализация мировой политики и экономики, развитие технологий привели к тектоническим изменениям в мире, а энергия является ключевым компонентом развития и процветания любой страны. Основной рост валового внутреннего продукта (ВВП) в глобальном масштабе происходит в первую очередь за счет развития экономик членов G20, на которых приходится более
80 % мирового ВВП, 7 % международной торговли и 60 % населения мира1. При этом рост обозначенного показателя связан с увеличением потребности в энергии. За последние столетия произошло несколько промышленных революций, связанных с энергетическим переходом от древесины к углю, затем к нефти и дизельному топливу, позднее – к природному газу и к возобновляемым источникам энергии (The Political Economy of National and Energy Security …, 2019).
Основным содержанием нового энергетического перехода, реализация которого ускорилась в начале XXI в., является вытеснение из энергетического баланса ископаемых видов топлива широким использованием возобновляемых источников энергии. Причины и следствия изменений и технологических переходов, которые произошли в прошлом, как ожидается, не останутся прежними в ближайшем будущем. Сегодняшний переход к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) следует рассматривать еще и как вызов в решении проблем сокращения выбросов парниковых газов, ядерных рисков, высоких или низких цен на энергию и чрезмерной зависимости ряда стран от импорта энергии2.
Предыдущие энергетические переходы были вызваны демографическим ростом, исчерпанием ресурсов и внедрением в производство новых технологий. Эти факторы способствовали тому, что человечество начинало осваивать новые формы высокопроизводительной энергии, что приводило к появлению нового доминирующего энергетического ресурса (Холкин, Чаусов, 2022). Однако, по оценкам специалистов, в перспективе ближайших 30 лет спрос на углеводороды будет сохраняться даже в сценариях, предполагающих быстрое развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). При этом страны – экспортеры нефти и газа как бенефициары углеводородной экономики, имеющие огромную энергетическую инфраструктуру, скептически относятся к процессам подобного перехода и реализуют консервативную политику в сфере развития ВИЭ (Горшкова, Бушуев, 2022).
Роль углеводородных ресурсов . Ископаемые виды топлива долгое время играли доминирующую роль в энергетическом балансе, и ожидается, что спрос на них сохранится в ближайшие десятилетия, несмотря на появление новых видов энергии, процентная доля которых в энергетическом балансе со временем будет увеличиваться. При этом, как отмечают исследователи, усилится конкуренция за обладание природными ресурсами (Ергин, 2021).
Развитие промышленности за последние десятилетия привело к обеспокоенности по поводу достаточного объема добычи традиционных углеводородных ресурсов. Для Китая с его крупным промышленным сектором бесперебойная и надежная поставка критически важных ресурсов стала решающим условием в обеспечении непрерывной работы промышленности (Andersson, 2020). Более того, КНР ищет энергию и сырье в других странах, которые имеют принципиальное значение для устойчивости ее экономики, в то время как Россия стремится экспортировать свои энергетические ресурсы и товары, которые важны для стабилизации и укрепления ее экономики, поскольку она сильно зависит от их экспорта.
Глобальная энергетическая система имеет сложное устройство: более трети добываемой нефти продается на международном уровне, около четверти природного газа. Из-за возникают энергетические дисбалансы, спровоцированные избытком и дефицитом природных ресурсов, которые приводят к острым противоречиям между государствами и являются причинами международных энергетических конфликтов (Анненков и др., 2021).
Население Китая и Индии вместе составляет одну треть человечества – почти 2,75 из 8,1 млрд жителей. При этом в течение 2021 г. КНР покрывала 70 % своих нужд в источниках энергии за счет импорта нефти и около 40 % – за счет покупки природного газа, в то время как Индия обеспечивает таким образом 80 % своей потребности в нефти и около 50 % – в природном газе. В течение следующих 30 лет потребление энергии в этих странах останется на высоком уровне, в то время как импорт Индии нефти и природного газа, как ожидается, удвоится к 2050 г.3
Что касается экспорта, связанного с природными энергоносителями, ожидается, что в нем в ближайшие десятилетия будут лидировать Россия и страны Ближнего Востока. США стали крупным нетто-экспортером в 2017 г. в основном благодаря разработкам в области добычи сланцевой нефти при помощи гидроразрыва пласта, что привело к увеличению производства углеводородных ресурсов в стране (Золина и др., 2019), а также снижению их потребления, которое может достичь пика примерно в 2030 г.
Объекты инфраструктуры добычи, транспортировки и переработки нефти и газа географически расположены в разных местах, и возможные сбои могут привести к дефициту энергоносителей, если предложение не будет восполнено до того, как запасы закончатся. В период с 1950 г. зафиксировано 24 шока предложения нефти, которые можно рассматривать как инциденты, происходящие примерно каждые восемь месяцев (Farrell et al., 2004: 421). При этом подобные манипуляции на энергетическом рынке вызывали как прямые, так и побочные эффекты для мировой экономики.
Энергетический переход . Данный процесс представляет собой переориентацию энергетического сектора с систем производства и потребления традиционных источников ископаемого топлива (уголь, нефть, природный газ) на возобновляемые ресурсы, такие как ветряная и солнечная энергия, а также аккумуляторные батареи. Растущее применение последних в структуре энергоснабжения является ключевым фактором перехода к «зеленой» парадигме потребления.
Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в период с 2019 по 2024 гг. общая мощность возобновляемых источников энергии в мире увеличится на 50 %1. Однако все же ожидается, что переход будет медленным: на производителей электроэнергии нарастает давление, требующее вывести из эксплуатации существующие активы, зависящие от поставок угля, и создать другие формы производства электроэнергии. Многие крупные нефтяные компании ускоряют расходы на возобновляемые и низкоуглеродные источники энергии в ответ на растущую озабоченность по поводу изменения климата.
В течение 2020–2045 гг. глобальный спрос на первичную энергию может увеличиться на 28 %, поскольку ожидается, что мировая экономика удвоится, а население мира увеличится на 20 %, достигнув примерно 9,5 млрд человек2.
Современный энергетический переход с заменой традиционных форм энергии на возобновляемые источники происходит на фоне возрастающих геополитических рисков и кризисов международной политики (Pascual, Elkind, 2010). Эта трансформация энергетики уже сталкивается со многими трудностями и объединяет вопросы, связанные с инфраструктурой, межсетевым соединением, темпами перехода, а также готовностью и способностью каждой страны и общества справиться с новой ситуацией. На карту поставлено то, насколько готовы и зрелы национальные государства и общества принять на себя бремя необходимых изменений уже сегодня, а не перекладывать их на следующее поколение. В то же время ожидается, что энергетический переход повлияет на государства в том, чтобы они активизировали свои усилия по доступу к необходимым природным ресурсам, которые считаются критически важными для развития ВИЭ3.
Возможно, что конкуренция за усиление влияния заинтересованных стран и их могущества будет интенсивной и сильной, поскольку это прекрасная возможность для реализации перемен на современном этапе международной политической экономии. ВИЭ могут способствовать мирному урегулированию споров и разногласий на государственном уровне, поскольку их больший вклад в энергетический баланс может снизить любой геополитический риск и поддержать международное сотрудничество за счет взаимосвязи энергетических систем между государствами. Более того, распространение «зеленых» ВИЭ может еще больше способствовать глобальной энергетической безопасности и, как следствие, меньшему напряжению и трениям между государствами (Костюк и др., 2012). Производство энергии из ВИЭ может положительно повлиять на геополитические отношения между национальными государствами, в то время как ВИЭ все еще нуждаются во времени, чтобы должным образом интегрироваться в сеть национальных государств.
Экономика развитых и развивающихся стран в последние годы в основном руководствовалась необходимостью достижения нулевого уровня выбросов углерода, чтобы противостоять изменению климата, которое становится все более заметным и неизбежным. Ожидается, что потребление нетрадиционных видов топлива в этом столетии значительно возрастет, к 2040 г. оно удвоится по сравнению с объемом потребления в начале этого века, а к 2100 г. вырастет в четыре раза по сравнению с 2000 г.4
Уязвимости и проблемы . Действия международного сообщества в рамках борьбы с явлениями, вызванными изменением климата, также играют важную роль для установления темпов энергетического перехода.
Во время последнего климатического саммита COP-26, который состоялся в Глазго (Шотландия) в ноябре 2021 г., обсуждались вопросы, связанные с энергетикой, в частности, энергетический переход в отношении надлежащих измерений, необходимых для адаптации к изменению климата1. На встрече была предпринята скоординированная попытка выработать общую линию для международного сообщества и принять меры для достижения заявленных целей к 2030 и 2050 гг. Основные цели COP26 можно резюмировать следующим образом: достичь углеродной нейтральности к середине XXI в. и удержать глобальное потепление на уровне 1,5 °С; защищать сообщества и естественную среду обитания; мобилизовать финансирование, сделав его международным; объединить усилия по преодолению климатических проблем2.
Важнейшей задачей на будущее является также степень замены традиционных форм источников энергии «новыми» формами энергии, при этом преобладающими являются возобновляемые и чистые виды энергии, такие как ядерная энергия и водород. Цель преобразования и модификации всей энергетической системы требует значительного прогресса в современных энергетических технологиях. Использование аккумуляторов и новых материалов могут также обеспечить необходимую стабильность в энергосистеме и нормализовать любые нарушения, вызванные низкой эффективностью энергетических систем.
Согласно А. Голдтау и Б.К. Совакулу, развитие возобновляемых источников энергии должно положительно повлиять на следующие компоненты энергетической безопасности: ценовую стабильность; децентрализацию и доступность; инновации и исследования; инвестиции и занятость; качество окружающей среды; торговую и региональную взаимосвязь (Goldthau, Sovacool, 2012). Возобновляемые источники энергии, очевидно, пока предоставляют наилучшую возможность для государств стать более независимыми от уязвимости глобальных энергетических рынков углеводородных ресурсов и приблизиться к цели энергетической самодостаточности.
Заключение . Выбор правильного энергетического баланса имеет жизненно важное значение для государств при реализации стратегии энергетической безопасности. При этом новые технологии и разработки в области поиска альтернативных форм энергии уже нашли свое отражение на коммерческом уровне: фотогальванические элементы, топливные элементы и другие малогабаритные устройства доступны для домашнего использования.
В Европейском союзе регулирующие органы взяли на себя ведущую роль в продвижении углеродно-нейтральной экономики, обозначив глобальную цель – достигнуть нулевого выброса парниковых газов к 2050 г. Развивающиеся страны, включая Китай, также пытаются определить, как расширить доступ к энергии и поддержать свою экономику, одновременно переходя на более чистые источники энергии. В США растет производство электроэнергии с меньшим выбросом парниковых газов, пропагандируется экономика экологически чистой энергии.
Геополитические события XXI в. выдвинули энергетическую безопасность стран на передний план политического дискурса. Многие государства взяли на себя обязательство замедлить глобальное потепление за счет существенного сокращения выбросов парниковых газов, однако это не так просто. Для учета различных компонентов энергетического перехода и оценки готовности к нему требуются инструменты, ориентированные на разработку определенных критериев и индексов оценки для лучшего понимания рисков и возможностей, связанных с переходом к «зеленой» энергетике.
Несмотря на то, что сегодня очевидны определенные технологические достижения в политике обеспечения глобальной энергетической безопасности –внедрение новых источников энергии, значительный прогресс в области энергетических технологий, быстрое развитие систем солнечной и ветровой энергетики, до сих пор не произошло заметных изменений, способных повлиять на мировую систему экономических и энергетических отношений. В настоящее время возобновляемые источники энергии не могут полностью заменить ископаемое топливо, поскольку это повлечет за собой изменение всей системы геоэкономических связей. Системные изменения проявляются не в форме размежевания, а в форме экономических и политических трансформаций, для которых требуется время. Кроме того, достижения в области возобновляемых источников энергии требуют дополнительных финансов для развития и внедрения новых технологий, поэтому государства и частные компании по-прежнему инвестируют в ископаемое топливо. Смене глобальной энергетической парадигмы препятствует также ряд социальных норм и привычек.
Традиционное понимание энергетической безопасности пока остается неизменным, и хотя происходят изменения, роли ключевых игроков на энергетическом рынке в краткосрочной перспективе остаются прежними. Сегодня многие страны сталкиваются с различными геополитическими рисками и проблемами энергетической безопасности, рассматривая разные подходы к их решению. В целом, переход к возобновляемой энергетике актуален для ведущих стран мира, включая Россию, а это требует внесения корректив в энергетическую национальную стратегию и изменения содержания понятия энергетической безопасности в условиях усиливающейся стратегической конкуренции среди ведущих мировых держав.
Список литературы Влияние возобновляемых источников энергии на энергетическую безопасность
- Анненков В.И., Моисеев А.В., Шангараев Р.Н. Энергетическая безопасность как фактор обеспечения национальной и международной безопасности // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2021. Т. 11, № 4 (73). С. 1199–1208. https://doi.org/10.35775/PSI.2021.73.4.022.
- Горшкова А., Бушуев В. Энергопереход-2021: от заката до рассвета рынка нефти и газа // Энергетическая политика. 2022. № 1 (167). С. 4–5.
- Ергин Д. Новая карта мира. Энергетические ресурсы, меняющийся климат и столкновение наций. М., 2021. 444 с.
- Золина С.А., Копытин А., Резникова О.Б. «Сланцевая революция» в США как главный драйвер перестройки мирового рынка нефти // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2019. Т. 12, № 6. С. 71–93.
- Костюк В.В., Макаров А.А., Митрова Т.А. Энергетика и геополитика // Академия энергетики. 2012. № 1 (45). С. 8–21.
- Холкин Д., Чаусов И.С. Энергетический переход в контексте «Форсайта столетия» // Энергетическая политика. 2022. № 1 (167). С. 70–81. https://doi.org/10.46920/2409-5516_2022_1167_70.
- Andersson P. Chinese Assessments of "Critical" and "Strategic" Raw Materials: Concepts, Categories, Policies, and Impli-cations // The Extractive Industries and Society. 2020. Vol. 7, iss. 1. Р. 127–137. https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.01.008.
- Chester L. Conceptualising Energy Security and Making Explicit Its Polysemic Nature // Energy Policy. 2010. Vol. 38, iss. 2. P. 887–895. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.10.039.
- Farrell A.E., Zerriffi H., Dowlatabadi H. Energy Infrastructure and Security // Annual Review Environmental Resources. 2004. Vol. 29. Р. 421–469. https://doi.org/10.1146/annurev.energy.29.062403.102238.
- Goldthau A., Sovacool B.K. The Uniqueness of the Energy Security, Justice and Governance Problem // Energy Policy. 2012. Vol. 41. P. 232–240. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.10.042.
- Hughes L. The Four ‘R's of Energy Security // Energy Policy. 2009. Vol. 37, iss. 6. P. 2459–2461. https://doi.org/10.1016/j.en-pol.2009.02.038.
- Pascual C., Elkind J. Introduction // Energy Security: Economics, Politics, Strategies and Implications. Brookings, 2010. Р. 1–9.
- Sovacool B.K., Mukherjee I. Conceptualizing and Measuring Eenergy Security: A Synthesized Approach // Energy. 2011. Vol. 36, iss. 8. P. 5343–5355. https://doi.org/10.1016/j.energy.2011.06.043.
- The Political Economy of National and Energy Security / eds.: P.G. Sklias, F. Flouros. N. Y., 2019. 384 p.