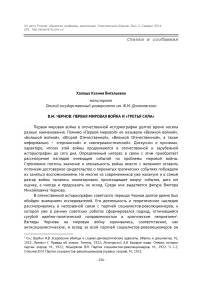В.М. Чернов: Первая мировая война и «третья сила»
Автор: Халоша Ксения Витальевна
Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2, 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены взгляды В.М. Чернова на проблемы Первой мировой войны, его концепция «третьей силы» как фактора решения этих проблем, прежде всего - вопроса мира и социализма
Первая мировая война, в.м. чернов, "третья сила", интернационал, оборончество, пораженчество
Короткий адрес: https://sciup.org/140129645
IDR: 140129645
Текст научной статьи В.М. Чернов: Первая мировая война и «третья сила»
Статьи и сообщения
Халоша Ксения Витальевна магистрант
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
В.М. ЧЕРНОВ: ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И «ТРЕТЬЯ СИЛА»
Первая мировая война в отечественной историографии долгое время носила разные наименования. Помимо «Первой мировой» ее называли «Великой войной», «Большой войной», «Второй Отечественной», «Великой Отечественной», а также неформально – «германской» и «империалистической». Дискуссии о причинах, характере, итогах этой войны продолжаются в отечественной и зарубежной историографии до сего дня. Определенный интерес в связи с этим приобретает рассмотрение взглядов очевидцев событий на проблемы мировой войны. Стремление постичь значение и эпохальность войны вместе с желанием оставить потомкам достоверное свидетельство о пережитых трагических событиях побуждали их заняться воспоминаниями. Но многие из современников уже накануне и в самый разгар войны пытались анализировать происходящие вокруг события, дать им оценку, а иногда и предсказать их исход. Среди них выделяется фигура Виктора Михайловича Чернова.
В отечественной историографии советского периода Чернов долгое время был обойден вниманием исследователей. Его деятельность и теоретическое наследие рассматривались в неотрывной связи с партией социалистов-революционеров, к которой уже в ранних советских работах сформировался подход, отличавшийся сугубой идейно-политической направленностью и критическим неприятием 1 . Взгляды Чернова на мировую войну оценивались, соответственно, как антисоциалистические, и вслед за всей партией социалистов-революционеров он
Статьи и сообщения
представал врагом родины и заговорщиком. На долгие годы этот образ зафиксировал вышедший в 1938 г. печально известный краткий курс «Истории ВКП(б)», на страницах которого деятельность Чернова рассматривалась как помощь «буржуазии обманывать народ, скрывать империалистический, грабительский характер войны» 2 .
Лишь со второй половины 1950-х годов интерес советских ученых к истории эсеровской партии начинает повышаться. Выходит целый ряд серьезных работ, посвященных эсерам, расширяется проблематика исследований, начинает признаваться вклад эсеров в дело борьбы с самодержавием 3 . Однако не происходит преодоления негативных оценок послефевральского и особенно послеоктябрьского этапа истории эсеровской партии, деятельность которой продолжала оцениваться как контрреволюционная и освещалась с точки зрения «связи с белогвардейцами». В этом списке можно выделить труды К.В. Гусева, затронувшего вопрос отношения Чернова к войне. По мнению исследователя, основные противоречия между странами накануне ее начала Чернов объяснял теорией «гиперимпериализма», а именно – стремлением передовых индустриальных капиталистических государств «политически закрепить свою экономическую, в особенности торговую, диктатуру над странами, производящими сырье и средства существования, над странами аграрными, и заменой конкуренции национальных империализмов одним сложным союзом – сверх- или "гиперимпериализмом"» 4 . Но если накануне революции 1917 г. Чернов занимал в партии по вопросу о войне центристскую позицию, то в течение 1917 г. он все более сближается с оборонцами 5 .
Постсоветский этап ознаменовался поворотом не только в методологии, подходах и оценках исследователей, но и в тематике поисков. Обозначился серьезный интерес к личности Чернова, его роли в организации и деятельности эсеровской партии, к его концепции социального, экономического и политического переустройства России. Появляется новая работа К.В. Гусева, в которой историк останавливается на теории «третьей силы» Чернова, считая, что она «служила и обоснованием политики эсеров во Временном правительстве и, особенно, на
Статьи и сообщения
начальном этапе Гражданской войны» 6 . А.И. Аврус в статье, посвященной взглядам Чернова на вопрос «третьей силы» в Первой мировой войне, приходит к выводу, что во время революции эсеровский лидер не изменил своих прежних позиций, оставаясь верным социалистическим и интернационалистическим идеалам 7 .
Из современных зарубежных исследователей взгляда, что поддержка Черновым Временного правительства рассматривалась последним как необходимый шаг в укреплении плацдарма «третьей силы» в Европе (т.е. русской революции), придерживается американский исследователь С. Соссинский 8 . В то же время новозеландский историк А. Трапезник считает, что при решении вопроса о войне и мире во время революции Чернов полностью отказался от своей интернационалистской позиции, и в принятой партией резолюциях отсутствует какое-либо упоминание о «третьей силе», долженствующей, по Чернову, завершить войну 9 .
Таким образом, среди исследователей не выработалась единая точка зрения на позиции Чернова, отсутствует единство в понимании его концепции «третьей силы», ее места и роли в войне, что и определило наш интерес к проблеме.
С началом войны Чернов занял интернационалистскую позицию. Уже на конференции социалистов стран Антанты (Лондон, февраль 1915 г.) вместе с М.А. Натансоном он подписал декларацию, определявшую войну как преступление и отмечавшую, что нужна не победа какой-либо из группировок, а рост во всех государствах-участниках мировой войны широкого народного антивоенного движения. Чернов, выступив противником мировой войны, воспринял ее как «всеевропейский шквал» и «величайшую катастрофу для социализма, для демократии и вообще для всей европейской цивилизации». Он предположил три варианта развития событий. Первый – война закончится ничьей, так как «из-за отказа разочаровавшихся в военных иллюзиях масс» она не сможет быть доведена до конца. Но не менее возможными итогами войны будет победа Антанты или же блока Центральных держав. При этом Чернов подчеркивал, что «встать за "тех" или "других" из двух воюющих лагерей для… социалистов, было бы идейным и моральным самоубийством» 10 .
Свои взгляды на войну Чернов изложил на страницах газет «Жизнь» и «Мысль».
Статьи и сообщения
Позднее его статьи были собраны и составили брошюру «Война и "третья сила"», напечатанную в Женеве в 1915 г. Основную причину войны Чернов видел в сущности империализма – обострение противоречий «двух гигантских военнополитических трестов, решающих оружием спор о "разделе мира"». Но вместе с тем война – это и следствие «обострения внутренних противоречий капитализма», нарождающейся в современной Европе революционной ситуации. И попытка «временного разрешения внутренних противоречий… путем расширения внешних границ арены деятельности национального капитала» была весомым основанием для начала мировой войны 11 . «Они – каждый для себя – хотели обмануть мировой кризис, уйти от него, искусственно направить силу его давления на соседей», – писал Чернов о политике враждующих государств, отмечая, однако, что «им будет суждено только обострить последствия этого кризиса – повсеместные его последствия – всем тем чудовищным разрушительным влиянием, какое имеет современная война, эта война – монстр, война, сметающая с лица земли всякое подобие культуры» 12 .
Первоочередными задачами Чернов считал борьбу за прекращение войны «вмешательством международного социалистического движения» и за приближение последнего акта «решительной борьбы за власть». Предпочтение перед «дюжиной резолюций и программ» он отдавал «одному шагу вперед практического движения» 13 . Поэтому, несмотря на войну и ради скорейшей ее ликвидации, Чернов проповедовал веру в возрождение международного рабочего движения, взывал к восстановлению Интернационала и требовал, чтобы Интернационал уже во время войны проявил себя не как «Интернационал слов, международных парадов и резолюций, а как Интернационал действия» 14 .
Казалось бы, здесь явная солидаризация позиций Чернова и сторонников Ленина. Но имеется и отличие от ленинского «пораженчества»: «"Ни победителей, ни побежденных" – это должно означать: поражение правительства от руки возрожденной "третьей силы", – утверждал Чернов, – и нельзя подменять его формулой "поражение своего правительства в империалистической войне"». Нельзя, «ибо последнее означает – победу другого, столь же враждебного трудовой демократии правительства, в той же войне» 15 . Выступая за мир без победителей и побежденных (среди противостоящих блоков), Чернов был убежден, что «в борьбу
Статьи и сообщения
двух гигантских военно-политических трестов, решающих оружием спор о "разделе мира", может вмешаться и спутать карты военно-завоевательной игры новая, третья сила – сила наученной горьким опытом, очнувшейся от военного психоза трудовой демократии, третья сила внутренней революции» 16 . Признавая полную своевременность в России этой «решительной борьбы за власть», Чернов критиковал социал-патриотов за впадение под влиянием кризиса в полное революционное безверие, за принятие ими войны и за то, что, находясь «по одну и ту же сторону баррикады» с царским правительством, они взывают к «самообузданию» революционеров ввиду якобы всеопределяющих «интересов фронта» 17 .
Не менее любопытны суждения Чернова относительно возможной победы народа над своим правительством в условиях империалистической войны и дальнейшей политики революционного временного правительства. «Если в решительной борьбе за власть, – писал он в статье "Чужими путями", – победит народ, то даже революционное временное правительство – а без него в революции не обойдется – тоже не будет встречать армию завоевателей "хлебом-солью". Но оно поведет против него революционную, народную войну; оно обратится к германскому пролетариату с призывом последовать примеру России и вырвать власть у Гогенцоллернов, чтобы ликвидировать войну не сообразно перевесу грубой военной силы, а на принципах справедливости и права; она разорвет все международные обязательства старой России, связанные с захватническими аппетитами и с задними империалистическими целями союзных с нею государств… Вот в каком смысле для нас, революционных социалистов, мыслима "оборона страны", – оборона, перестающая быть простой обороной границ полицейского государства и превращающаяся в "оборону" общечеловеческих начал против всего отжившего, – и вот в чем наше отличие от "принявших войну" обезверенных эпигонов социализма» 18 .
Главным лозунгом и тактической задачей Чернов считал «превращение переживаемого современной Европой военного кризиса в кризис революционный» 19 , не исключая, что именно России уготовано начать преобразование мира на социалистических началах. «Кто же даст этот толчок? Почем знать – быть может, Россия. В ней не закончена, оборвана, вогнана внутрь революционная встряска 1905–1906 гг.; в ней контрреволюция копила долго и настойчиво вековые неразрешенные социальные и политические проблемы; в ней
Статьи и сообщения
упорство обанкротившейся и в военном деле бюрократии создает недовольных даже там, где она могла бы рассчитывать найти своих естественных союзников: в ней общая дезорганизация, административная анархия и полная свобода всякой спекуляции и всякого хищничества способны обострить внутренний кризис и брожение в такой степени, что они прорвутся с силою элементарной стихии, которую не успокоят никакими заговорами и заклинаниями», – писал он незадолго до 1917 г. 20
Таким образом, теоретик обладал удивительным «чутьем момента», даром предвидения. Во время Первой мировой войны, говоря о необходимости выступления «третьей силы», Чернов верно предположил, что именно России выпадет «роль фермента всеевропейского преобразования, роль смелого инициатора, своим примером приводящего в движение другие народы» 21 . Однако, войдя во время революции в состав коалиционного правительства и солидаризировавшись с позицией Временного правительства первой, да и последующих коалиций, по вопросу войны и мира, он отказался по существу использовать свое предвидение, свои наработки. Не смог реализовать свою идею «третьей силы» – объединения рабочего движения разных стран в борьбе за демократический мир без аннексий и контрибуций, за решение вопроса о власти в рамках социалистической революции. Словно бы забыл собственное видение роли России в возможном революционном катаклизме; забыл все свои установки на спасение мира через «очистительное пламя революции», смысл которой – «наступление на основы буржуазного господства и буржуазной собственности», притом что «если не начало гражданской войны», то для социалистов остается одно: «путь пассивного подчинения стихии, паралич собственной деятельной воли и фактический отказ от своей духовной сущности» 22 . Можно, пожалуй, согласиться с С. Соссинским, что Чернов был излишне поглощен теоретическими и философскими сражениями со своими противниками, чтобы уделять надлежащее внимание практическим вопросам 23 . Именно это помешало теоретику с мощными прогностическими способностями стать адекватно действующим политиком.
Список литературы В.М. Чернов: Первая мировая война и «третья сила»
- Аврус А.И. В.М. Чернов о «третьей силе» в Первой мировой войне//Доклады академии военных наук. Военная история. -2006. -№ 5 (23). -С. 224-227.
- Гусев К.В. Виктор Чернов. Штрихи к политическому портрету. (Победы и поражения Виктора Чернова). -М.: РОССПЭН, 2000. -288 с.
- Гусев К.В. Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционаризма к контрреволюции. -М.: Мысль, 1975. -383 с.
- Гусев К.В., Ерицян Х.А. От соглашательства к контрреволюции. (Очерки истории политического банкротства и гибели партии социалистов-революционеров). -М.: Мысль, 1968. -447 с.
- Комин В.В. Банкротство буржуазных и мелкобуржуазных партий в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции. -М.: Моск. рабочий, 1965. -643 с.
- Спирин Л.М. Классы и партии в гражданской войне в России (1917-1920 гг.). -М.: Мысль, 1968. -438 с.
- Sossinsky S.B. Pages From the Life and Work of an SR Leader a Reappraisal of Victor Chernov. Ph. D. Diss. -Boston: Boston University, 1995. -303 p.
- Trapeznik A. V.M. Chernov: Theorist, Leader, Politician. -Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2007. -178 p.