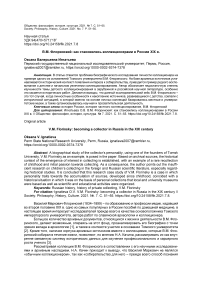В.М. Флоринский: как становились коллекционерами в России XIX в.
Автор: Оксана Валерьевна Игнатьева
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится проблема биографического исследования личности коллекционера на примере одного из основателей Томского университета В.М. Флоринского. На базе архивных источников устанавливается исторический контекст появления интереса к собирательству, приводится пример редкого воспоминания о детстве и начальном увлечении коллекционированием. Автор обозначает недостаточную степень изученности темы детского коллекционирования в зарубежной и российской научной литературе, особенно это касается исторических работ. Делаются выводы, что данный исследовательский кейс В.М. Флоринского – это тот случай, когда личностные особенности к накоплению источников, развивавшиеся с детства, совпали с исторической ситуацией, в которой именно на основе личных коллекций базировались местные и университетские музеи, а также организовывалась научная и просветительская деятельность.
История России, история частного коллекционирования, В.М. Флоринский Для цитирования: Игнатьева О.В. В.М. Флоринский: как становились коллекционерами в России
Короткий адрес: https://sciup.org/149134220
IDR: 149134220 | УДК: 94(470+571)“18” | DOI: 10.24158/fik.2021.7.8
Текст научной статьи В.М. Флоринский: как становились коллекционерами в России XIX в.
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия, , 0000-0002-9374-7378
Perm State National Research University, Perm, Russia, , 0000-0002-9374-7378
Василий Маркович Флоринский (1834–1899) – по образованию и профессии медик, издавший во второй половине XIX в. одно из самых популярных в России пособий по домашней медицине, в настоящее время интересует исследователей прежде всего в качестве основоположника Томского императорского университета, автора работ по славянской археологии и коллекционера.
Большое количество архивных документов, относящихся к жизни и деятельности В.М. Флоринского, делают возможным, опираясь на этот фонд, проанализировать его биографию с точки зрения вклада в археологию [1], а также в контексте участия в основании Томского университета [2]. Кроме того, наличие корпуса архивных источников вместе с коллекциями, которые В.М. Флоринский собирал в течение жизни, позволяют, по мнению Н.А. Качина, рассматривать их как внутренне связанную систему исторических данных для изучения профессионального и карьерного роста ученого [3].
Рассматривая коллекции В.М. Флоринского в сопоставлении с его научными исследованиями и архивным наследием, Н.А. Качин приходит к выводу, что Василий Маркович не являлся «обычным коллекционером», так как «собирательство для него – прежде всего способ познания мира, часть его научной работы. В этой логике коллекционирование становилось первичным этапом научного исследования, методом накопления необходимого материала» [4, с. 20].
Не представляется возможным согласиться с данной точкой зрения на характер собирательской деятельности В.М. Флоринского, поскольку коллекционирование как культурная практика связано в том числе с развитием научной картины мира. В ситуации XVIII–XIX вв., когда музейных научных коллекций было немного, исследовательская деятельность, как правило, органично коррелировала с первичным накоплением источников и их систематизацией. Например, история Казанского императорского университета, где с 1878 г. работал В.М. Флоринский, с самого начала связана со многими профессорами, которые известны и как казанские коллекционеры [5].
Кроме того, в уставе Императорских российских университетов с 1863 г. содержался пункт о том, что музеи являются обязательной частью учебно-вспомогательных учреждений университета [6, с. 27–29]. Большая часть университетских музеев возникала как раз из собирательской деятельности профессоров и дарителей-коллекционеров. В.М. Флоринский в этом смысле не был исключением, и, встав во главе работ по устройству университета в Томске, он сразу начал собирать палеонтологическую и археологическую коллекцию именно для университетского музея.
Однако действительно необычной на фоне других профессоров-коллекционеров в России XIX в. личность В.М. Флоринского делает тот факт, что он увлекался собирательством с детства, более того, существуют автобиографические воспоминания об этом.
Современные авторы, обращаясь к истокам интереса к коллекционированию древностей у В.М. Флоринского, приводят следующую цитату из его исследования: «У меня лично любовь к археологическим занятиям развилась также случайно. Первое, поверхностное ознакомление с отечественными древностями я приобрел во время поездок по южной России в 60-х гг. В то время курганы наших южных степей и предметы, собранные в музеях Одессы и Керчи, настолько поразили мое воображение, что я ревностно принялся за чтение всего, что было известно по этим предметам» [7, с. 2].
Вместе с тем в фондах Национального музея Республики Татарстан хранятся воспоминания В.М. Флоринского, в которых есть отдельный сюжет о детстве будущего коллекционера и о том, как один эпизод определил его собирательский интерес на всю жизнь: «Весной 1842 г. я гостил у старшей сестры в селе Верхтеченское (в 20 верстах от Песков), куда она была выдана замуж за священника. Дом их стоял на крутом берегу р. Течь, где мы с сельскими мальчишками часто играли. Однажды значительный кусок берега, подмытый потоками, обвалился на наших глазах. Вместе с землей посыпались под гору блестки мелкого серебра в виде чешуек и колечек. Мы набрали их целые пригоршни. Потом, вместе со старшими, осматривали место обвала. В вертикальном разрезе его оказались торчащие концы сгнивших бревен или толстых досок. Очевидно, здесь были древние могилы. Здесь же подобрали мы несколько человеческих костей и длинную черную женскую косу, искусно заплетенную в пять или шесть прядей, с остатками привешенных к ней металлических бляшек. Эту находку, по распоряжению зятя, тут же закопали в землю, но собранную серебряную мелочь оставили у себя. Много лет эти чешуйки и колечки хранились у сестры как редкость. Впоследствии, будучи уже студентом, я рассматривал их, и часть взял с собой в Петербург. По определению сведущих людей, серебряные чешуйки оказались деньгами русских удельных князей. На каждой из них была просверлена дырочка. Очевидно, они служили украшением женской косы, по всей видимости, татарской.
Описанный случай в то время произвел на меня сильное впечатление. Я начал бредить кладами, и отнюдь не с целью обогащения, а предвкушая удовольствие какой-либо неожиданной находки. Чтобы искусственно подготовить себе такую радость, я, бывало, нарочно разбрасываю зимой, в снегу на дворе, медные полушки и денежки, которые отец обыкновенно отдавал нам, детям, как монету очень малоценную. Мне представлялось, что весной, когда стает снег, я буду находить эти полушки в земле, чего, однако же, никогда не случалось. Выше я уже упоминал о находках следов Пугачевского времени, в так называемом Воинском колке (верстах в четырех от села). Мы с крестьянскими ребятишками нередко копались там и к великой радости иногда находили под дерном скошенной травы или же окраинам пашни железные наконечники стрелок и мелкие пули вроде картечи. Спустя 2–3 года, когда я уже был в Далматском училище, я познакомился там с более яркими и многочисленными древностями времен татарских набегов на Далматский монастырь и со следами осады этого монастыря пугачевцами, в виде больших круглых пробоин в воротах и углублений в крепких каменных стенах. Древнее татарское оружие и доспехи… хранились в особом монастырском амбаре, частью в усыпальнице основателя монастыря Далмата. В Далматове же я в первый раз увидел огромные земляные курганы и услышал народные легенды об их происхождении. Все это, вместе взятое, запечатлелось в детской душе, по всей вероятности, и было причиной тому, что я с давних пор пристрастился к русским древностям. Эту слабость я чувствовал в себе всю жизнь. Она сопутствовала мне и во время заграничных путешествий, и в многочисленных скитаниях по лицу Русской земли, в городах и селах, где только представлялся тому случай. Так иногда от случайного совпадения обстоятельств, далее от одного сильного впечатления зарождаются и другие безотчетные влечения, не угасающие целую жизнь» [8].
Необходимо отметить, что приведенный документ является практически единственным автобиографическим свидетельством о собирательстве как о детском увлечении в дореволюционной России. Тема детского коллекционирования представлена в литературном творчестве русских писателей, в частности в рассказе К.С. Аксакова «Бабочки» повествуется о периоде детского увлечения писателя энтомологией. Конечно, в воспоминаниях и романах В.В. Набокова также присутствует нарратив о начале коллекционирования бабочек в детстве – увлечения, которое было не меньшей страстью и смыслом жизни для писателя, чем литературное творчество.
Б. Данет и Т. Катриэль абсолютно справедливо отмечают, что если тема взрослого коллекционирования в антропологических аспектах стала активно привлекать внимание исследователей с 1980-х гг., то детское коллекционирование, а также связь детских собирательских увлечений с дальнейшим их развитием во взрослом возрасте остаются без внимания [9, p. 221].
В современных российских исследованиях по возрастной психологии детское коллекционирование также не является самостоятельным объектом изучения. Тем не менее есть ряд работ, где оно рассматривается как одна из «форм проявления любознательности, которая, в свою очередь, понимается как один из уровней развития познавательной потребности. В этом хобби может отражаться стремление к умственной деятельности, к интеллектуальному наслаждению» [10, с. 34].
Крайняя ограниченность источников по теме детского коллекционирования в дореволюционной России делает приведенные воспоминания В.М. Флоринского важным документом. Полнота архивных источников по его биографии позволяет охарактеризовать связь между возникшим в детстве увлечением и тем, как оно в исторических условиях трансформировалось в социально одобряемые практики.
Итак, восьмилетний мальчик Василий Флоринский, играя с другими детьми весной на берегу реки, случайно сталкивается с археологическими находками, часть из которых потом хранятся в семье сестры как редкости. Более того, в воспоминаниях Василий Маркович отмечает, что начал «бредить кладами» и даже искусственно создавать ситуации поиска сокровищ.
Сами по себе случаи находок археологического материала местным населением в XIX в. не были единичными и даже вызывали кладоискательские движения [1 1]. Однако в данном случае, что, конечно, связано с характером воспитания в семье, В.М. Флоринским находки были восприняты не в качестве возможности обогатиться, а именно как исторические свидетельства. Интерес к истории, судя по воспоминаниям коллекционера, сопутствовал ему с раннего детства. Этому способствовало домашнее чтение «лубочных сказок» по историческим и былинным сюжетам, «картинки воздействовали на воображение и интерес к древним временам».
Отец В.М. Флоринского, Марк Яковлевич, был священником, но при этом разносторонним человеком, по инициативе Русского географического общества собирал этнографические сведения о местном населении. Для сыновей он видел близкую к собственной жизни судьбу, поэтому В.М. Флоринский закончил начальное духовное училище при Далматовском Успенском монастыре, а затем учился в Пермской духовной семинарии. Однако продолжить образование в Санкт-Петербурге в Духовной академии не смог, его не приняли учиться на казенное содержание, а в семье возможностей оплатить образование не было. В.М. Флоринский поступил в Санкт-Петербургскую императорскую медико-хирургическую академию, и в результате жизнь его сложилась совсем иначе, чем у его отца и братьев.
Он специализировался на акушерстве и гинекологии, несколько лет после окончания академии провел в Европе, знакомясь с европейским опытом в области медицины, защитил диссертацию и стал профессором кафедры акушерства и гинекологии Санкт-Петербургской императорской медико-хирургической академии. При этом, как только появилась возможность, начал службу в Министерстве народного просвещения, что в итоге сыграло решающую роль при выборе В.М. Флоринского в качестве руководителя работ по основанию Томского университета.
О коллекционировании в этот период развития профессиональной карьеры, вернее о продолжающемся интересе Василия Марковича к истории и археологии, в его воспоминаниях и публикациях есть лишь обрывочные сведения, например о том, что он не забыл о найденных в детстве монетах. В.М. Флоринский привез часть их в Санкт-Петербург в годы студенчества, где с помощью специалистов удалось определить, к какому периоду они относятся. Кроме того, именно в 1860-х гг. он совершает поездку по южной России, знакомится с «курганной культурой», которая стала в дальнейшем отдельной темой его исследований, посещает музеи Одессы и Керчи. Судя по биографии В.М. Флоринского, во время заграничной стажировки он не был в Италии, но поездки по югу России, литература и прекрасное воображение, которым он был наделен, позволили впоследствии в работе по славянской археологии проводить удивительные аналогии между российскими и античными древностями: «В этой, не лишенной поэзии, басне курганы представляются чем-то вроде Геркуланума и Помпеи, но еще в более грандиозных размерах. <…> Правда, они не дадут нам дорогих образцов античного искусства, не будут иметь высокой рыночной цены, но для науки они могут быть дороже золота и художественно обделанного мрамора» [13, с. 3–4].
Кроме того, в воспоминаниях В.М. Флоринского имеется важное наблюдение о самом процессе собирания всего, «к чему временно приходила охота»: «Заинтересовавшись предметом, я сделался настоящим старьевщиком, разыскивая, где только возможно, подходящие вещи. Это доставляло мне большое удовольствие» [14].
«Авось на что-нибудь пригодятся» – своеобразная формула собирательской деятельности В.М. Флоринского. И пригождалось, поскольку в этот период в России активно развивались научные общества, а также такие науки, как археология и этнография. Казанский университет, в который В.М. Флоринский получил назначение возглавить кафедру акушерства и женских болезней в 1878 г., стал одним из провинциальных центров развития археологии. В 1877 г. в Казани прошел археологический съезд, было инициировано создание научного общества – Казанского общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. В.М. Флоринский сразу включился в работу и составил проект устройства музея при обществе. Этот опыт вместе с продолжающимися исследовательскими поездками по губерниям России позволил Василию Марковичу и в период деятельности по открытию Томского университета быстро и эффективно организовать музей археологии, куда он передал и некоторые свои коллекции. Примечателен факт, что последняя работа В.М. Флоринского была не из области медицины, а именно археологического характера – завершение той темы, которая с детства, с первых находок, волновала и не отпускала его, несмотря на успешную медицинскую и административную карьеру.
Таким образом, на примере В.М. Флоринского можно выявить, как один случай из детства приводит к формированию самоидентичности как коллекционера, собирающего все, что могло быть ценным, – от писем и фотографий до археологических находок и произведений искусства. Это не было коллекционированием как проявлением демонстративного поведения. Скорее это тот случай, когда личностные склонности к накоплению всего, что может «пригодиться», совпали с исторической ситуацией, в которой именно на базе личных коллекций основывались местные и университетские музеи, а также организовывалась научная и просветительская деятельность.
Список литературы В.М. Флоринский: как становились коллекционерами в России XIX в.
- Жук А.В. Василий Маркович Флоринский, его место и значение в отечественной археологии // Вестник Омского университета. Сер.: Исторические науки. 2015. № 1 (5). С. 100–115.
- Качин Н.А. В.М. Флоринский: в поисках сибирской модели «классического университета» // Вестник Томского университета. История. 2015. № 6 (38). С. 11–18. https://doi.org/10.17223/19988613/38/2.
- Качин Н.А. Архив и коллекции В.М. Флоринского: опыт источниковедческого анализа : автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 2019. 26 с.
- Там же. С. 20.
- Назипова Г.Р. Ученый-коллекционер: к истории частного коллекционирования в дореволюционной Казани // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер.: История. Политология. 2008. № 5 (45). С. 74–80.
- Общие уставы Императорских российских университетов. 1863 и 1884 гг. Одесса, 1901. 83 с.
- Флоринский В.М. Первобытные славяне по памятникам их доисторической жизни. Опыт славянской археологии. Ч. 1. Томск, 1894. 355 с.
- Флоринский В.М. Мысли и воспоминания о моем детстве и школьном времени. Казань, 1882 // Архив Национального музея Республики Татарстан. Папка № 38. Художественные произведения. Инв. № 117959–204.
- Danet B., Katriel T. No Two Alike: Play and Aesthetics in Collecting // Interpreting Objects and Collections / ed. by S.M. Pearce. L., 1994. P. 220–239.
- Корепанова И.А., Журкова Е.А. Коллекционирование – феномен культурный и психологический // Культурно-историческая психология. 2007. № 4. С. 32–38.
- Бердинских В.А. Клады и кладоискательство в России. М., 2018. 340 с.
- Флоринский В.М. Русские простонародные травники и лечебники. Собрание медицинских рукописей XVI–XVII столетия. Казань, 1879. 229 с.
- Флоринский В.М. Первобытные славяне … С. 3–4.
- Флоринский В.М. Мысли и воспоминания …