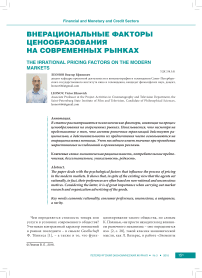Внерациональные факторы ценообразования на современных рынках
Автор: Леонов Виктор Ефимович
Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal
Рубрика: Финансовая и денежно-кредитная сферы
Статья в выпуске: 3 (15), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются психологические факторы, влияющие на процессценообразования на современных рынках. Показывается, что несмотря напредставление о том, что агенты рыночных транзакций действуют ра-ционально, в действительности их предпочтения часто основываются навнерациональных мотивах. Учет последнего имеет значение при проведениимаркетинговых исследований и организации рекламы.
Экономическая рациональность, потребительские предпочтения, бессознательное, уникальность, редкость
Короткий адрес: https://sciup.org/140129020
IDR: 140129020
Текст научной статьи Внерациональные факторы ценообразования на современных рынках
Чем определяется стоимость товара или услуги в условиях современного общества? Учитывая контрактный характер отношений в рамках последнего – в смысле Gesellschaft Ф. Тённиса [1], – а также и то, что функ- ционирование такого общества, по словам К. Поланьи, «не просто находится под влиянием рыночного механизма – оно определяется им» [2, с. 28], такой классик экономической мысли, как Л. Вальрас, в работе «Элементы
чистой политической экономии» совершенно недвусмысленно сформулировал ответ на поставленный вопрос: редкостью и полезностью [3, с. 84–90]. Подобное утверждение всегда легко проходит проверку, если областью его определения выступает эмпирическая реальность, которая в достаточной степени соответствует тому, что в рамках экономической терминологии принято именовать «совершенно конкурентным рынком». Закон спроса и предложения, как и любое другое потенциально верифицируемое суждение экономического характера, – это всегда, как говорил А. Маршалл, «обобщения тенденций, характеризующие действия человека при определенных условиях» [4, с. 95]. В силу этого также всегда нет недостатка в примерах, которые можно использовать в целях фальсификации экономически значимых утверждений. Что касается закона спроса и предложения, то, пожалуй, самый известный контраргумент против признания универсального характера действия данного закона получил наименование «товара Гиффена». Наличие подобного контраргумента делает весьма наглядным утверждение К. Гем-пеля о том, что в области знания об обществе и, в том числе в области экономики, «законы невозможно сегодня формулировать с достаточной точностью и общностью» [5, с. 97]. Тем не менее следует признать, что цена множества товаров в действительности может быть определена в соответствии с законом спроса и предложения с учетом условия ceteris paribus . Однако, как было замечено, существуют и исключения. В частности, давно известно, что в случае так называемых «уникальных» товаров цена не может быть определена в соответствии с законом спроса и предложения.
Вопрос, которому в значительной мере посвящена данная статья, связан с разграничением и, соответственно, более четким определением понятий «уникальность» и «редкость». На первый взгляд, это почти одно и то же: уникальность, т. е. то, что существует в единственном экземпляре, – это, можно сказать, предельный случай редкости. В ряде случаев это действительно так, и, самое главное, такой подход к определению не противоречит следствиям, которые следуют из закона спроса и предложения. Действительно, в общем случае данный закон предсказывает, что чем менее редким является какой-либо товар (при условии ceteris paribus), тем ниже должна оказаться его рыночная цена. И это действительно так. Рыночная цена, например, пшеницы или кофе обычно возрастает в неурожайные годы и падает в случае хороших погодных условий. Однако товар, который почему-либо признан «уникальным», совершенно не подчиняется данной зависимости даже в случае того, если он объективно лишается данного свойства.
Для того чтобы это разъяснить, можно провести следующий мысленный эксперимент. Допустим, существует какой-либо артефакт, который считается уникальным. Пусть это будет картина, которая написана известным живописцем несколько столетий назад и про которую все знают, что она существует в единственном экземпляре. В силу того, что предполагаемый эксперимент проходит в современных условиях, можно считать, что его организаторам потенциально доступны все современные знания и технологии. Поэтому они могут утверждать, что так называемая «уникальность» – это термин, который принято использовать для обозначения факта единственности существования каких-либо объектов макро- и мегамира, но не микромира. Действительно, если рассматривать объекты Вселенной, используя в качестве делений шкалы размерности величины, которые сравнимы с человеческим телом (макромир) или существенно большие объекты (мегамир), то в таком случае нетрудно обнаружить огромное число уникальных предметов. Например, это будут столы и стулья, дома и дороги, горы и планеты, звезды и космические туманности. Количество обнаруженных объектов в данном случае лимитируется только временем наблюдения и разрешающей способностью используемых приборов. Что же касается микромира, то здесь ситуация принципиально иная, ибо в микромире уникальности – в том смысле, как в макро- и мегамире – просто нет. На первый взгляд это может показаться ошибочным. Действительно, в микромире (в данном случае речь идет о размерностях, которые сравнимы с отдельными атомами и структурными элементами, из которых состоят последние) существует огромное множество различных объектов. Например, есть атом водорода, гелия, лития, железа и т. д. Дело, однако, в другом. Бесспорно, атом железа отличается от атома золота, но как быть с возможностью идентифицировать (отличить друг от друга) два атома золота и, тем более, определить различие между одинаковыми элементарными частицами, из которых состоят эти атомы? Именно в силу невозможности сделать последнее и можно сказать, что в микромире уникальности нет.
Продолжим дальше мысленный эксперимент. Соберем из микрочастиц – которые, как было сказано, не уникальны (в том смысле, что невозможно различить и, следовательно, идентифицировать) какой-либо объект макромира. Например, ту самую картину, о которой выше шла речь. Полученное изделие будет точной копией первичного оригинала, точнее, оно будет принципиально неотличимо от исходного «подлинника». То, что было сделано в результате воображаемого эксперимента, является, по существу, деконструкцией понятия «уникальность». Поэтому применительно к данному случаю следует говорить не о первичном «подлиннике» и его сконструированной «копии», а о двух принципиально (в физическом смысле) идентичных объектах. Следует также понимать, что данный эксперимент не так далек от реальности, как это может показаться на первый взгляд. Современное развитие микроэлектроники, например, действительно подошло к тому, чтобы конструировать определенные элементы электронных систем (в частности, транзисторов) посредством комбинации отдельных атомов. При необходимости, достигнутую идентичность можно верифицировать посредством других физических экспериментов. Например, с помощью интерферометра можно доказать, что излучаемые «подлинником» и «копией»
волны идентичны, что означает одинаковость последних с точки зрения их возможного восприятия (опять же, речь идет об объективно фиксируемых физических характеристиках). Последнее также является дополнительным аргументом в пользу доктрины, которая называется натуралистической эстетикой и в соответствии с которой «в основе красоты лежит естество, в первую очередь, природа» [6, с. 108].
Предположим, что кому-либо удалось организовать производство идентичных предметов, которые физически (с точки зрения своей структуры) и оптически (фиксируемые характеристики излучения) принципиально неотличимы друг от друга. Теперь следует вернуться к экономическому аспекту и поставить следующий вопрос: какое влияние на рыночную стоимость картин окажут описанные выше манипуляции? Прогнозируемый ответ, вероятно, будет состоять в том, что, несмотря на то, что редкость и даже уникальность (в молекулярно-структурном и физико-оптическом смысле) в данном случае исчезли, все равно рыночная стоимость первой картины, той, которая была написана известным художником несколько столетий назад, будет выше (скорее всего, останется такой же, как и до эксперимента), чем той, которая была сконструирована с помощью современных технологий. С точки зрения научной рациональности такой ответ объяснить невозможно, и, следовательно, объяснение сохраняющейся стоимостной разницы должно осуществляться в рамках какого-либо иного типа аргументации.
Как известно, произведения старых мастеров стоят дорого и цена на них постоянно растет. Почему так происходит? Искусствовед, возможно, скажет, что соответствующее произведение уникально тем (и поэтому дорого), что здесь впервые была выражена какая-либо новая идея. На это, однако, нетрудно возразить. Любой изучавший философию знает, что идеи нематериальны: это не вещи, а смыслы. Идеи существуют, понимаются, но не имеют пространственных и временных характери- стик. Например, мысль, выраженная в теореме Пифагора, является вечной и неизменной, и ее следует отличать от миллионов иллюстраций доказательства этой теоремы с помощью чернил и мела. Любые вещи же, в которых воплощены какие-либо идеи – это нечто совершенно другое. Прежде всего, всякая вещь, существуя во времени, изменяется, и это изменение всегда имеет энтропийный характер. Иначе говоря, старая вещь – это всегда портящаяся или уже испорченная вещь. Во всяком случае, в течение времени она становится хуже, чем была «в молодости». Следует также заметить, принципиальное различие между вещами и идеями совершенно ясно зафиксировано в области права: копирайт, как известно, защищает именно идеи, препятствуя незаконному их повторению, ибо, будучи однажды осознанными и выраженными, идеи существуют вечно и копируются с издержками, которые потенциально стремятся к нулю. Таким образом, уникальность идеи не следует отождествлять с уникальностью вещи, в которой она была впервые воплощена.
Можно также предположить, что загадка высокой цены «уникальных» предметов связана с выполняемой ими функцией накопления и сбережения сокровищ. Действительно, как уже было сказано, произведения старых мастеров стоят дорого и их цена постоянно растет. Поэтому приобретение произведений искусства с перспективой последующей перепродажи – это выгодный бизнес. В частности, по словам В. Г. Антоновой, «важной особенностью рынка предметов искусства является его способность стать альтернативным вложением капиталов во времена финансовых потрясений» [7, c. 93].
Если покупатель валюты или драгоценных металлов только в будущем узнает, принесут ли ему инвестиции прибыль, то владелец антиквариата практически уверен, что стоимость его активов со временем будет только увеличиваться. Однако констатация высокой стоимости предметов данного рода и эмпирически подтверждаемое в настоящее время постоянное ее увеличение ничего не говорят о причине такого явления. Если, например, выяснится, что произведение искусства не настоящее, является подделкой, которая написана безымянным художником недавно или даже давно, но не тем автором, то цена немедленно упадет.
Попытка объяснения феномена «уникальности» с позиции социологии может быть сведена к следующему. Общество иерархично. Жители каждого этажа социальной лестницы стараются подчеркнуть свою особенность по сравнению с теми, кто стоит ниже. Для этого люди зачастую и украшают себя дорогими вещами. То есть обладание редкими и уникальными приметами служит дополнительной легитимацией достигнутого статуса. Следует согласиться, что данная стратегия является рациональной, и наиболее известным примером ее экономического обоснования служит работа Т. Веблена «Теория праздного класса» [8]. Тем не менее вряд ли все множество отношений людей к вещам может быть интерпретировано сходным образом. Не все или, по крайней мере, не всегда так расчетливы. Ведь для многих «дорогими» являются вещи, которые как раз не имеют никакой стоимости с точки зрения иерархически и (одновременно) экономически значимых факторов.
В связи с этим следует констатировать, что попытка объяснить «уникальность», которая ранее была деконструирована в рамках физической аргументации, посредством обращения к предметному полю и методологии истории искусств, социологии и экономики не позволяет получить удовлетворительного понимания исследуемого феномена. Так произошло потому, что используя объяснительные приемы, релевантные для перечисленных предметных областей, исследование осталось в рамках парадигмы современной науки с ее формальной рациональностью, которая в данном случае продемонстрировала свой ограниченный эвристический потенциал. Фактически произошло то, о чем в свое время писал М. Хайдеггер: когда все «смирились с научным подходом» … «вещь в качестве вещи оказалась ничем» [9, с. 318–319].
Если попытаться разрешить проблему уникальности, не ограничиваясь позитивистскими методами исследования и статистически релевантными ссылками на положение дел в конкретный момент времени и не использовать в качестве основного метода одну лишь экстраполяцию от прошлого, то, видимо, следует обратиться к предметной области глубинной психологии.
Для того чтобы объяснить, о чем идет речь, целесообразно прислушаться к тому, что же именно порой говорят ценители подлинности. Сколь разными бы ни были эти ценители, каков бы ни был предмет их обожания, но всякий, слушая их повествование, может услышать примерно следующее. Ключевые слова, которые часто звучат в случае попытки вербализации опыта восприятия уникального объекта, следующие: «сопричастность», «близость», «прикосновение», «сопереживание», «душа» и т. п. Главная цель и тайное желание, скрывающиеся за подобными повествованиями, – это стремление отождествления себя с другим посредством его обладания (если не всем объектом обожания, то хотя бы его частью). Подобные рассуждения вполне соответствуют типу мировосприятия, который называется мифологическим и для которого характерна как нечувствительность к логическим противоречиям, так и неосознаваемое отождествление субъективного и объективного, идеального и материального. Это именно то, что Л. Леви-Брюль в работе «Сверхъестественное в первобытном мышлении» назвал пралогическим мышлением, в основе которого лежат не логические принципы тождества и противоречия, а синкретизм и которое руководствуется чувством партиципации (сопричастности) [10, с. 56–86].
Принято считать, что мировоззрение современного человека отличается от мировосприятия его первобытного предка. Древний человек жил мифом и магией и для него это было естественным миропониманием и повседневной практикой. Считают также, что современный человек только играет в миф и магию, отдается им, так сказать, в свобод- ную минуту или когда у него что-либо не получается. При таком взгляде миф и магия предстают как нечто несерьезное и исключительно маргинальное. Ведь миф и магия – это антропоморфизм, т. е. представление об одушевленной связи всего сущего. С точки зрения науки, магия – это методологическая ошибка, попытка действовать с помощью недействующих средств, в основе которой лежит ошибочное представление, вера в то, что в действительности не существует. Магический «объект» не существует как объект в рационально-научном смысле этого слова, т. е. как то, что можно зафиксировать с помощью научных эмпирических методов познания. С точки зрения научной психологии нельзя говорить о каком-то органе чувств, который может воспринимать этот «объект». И, тем не менее, это не ничто.
Антропоморфизм настолько же примитивен, насколько и неизживаем. Магический антропоморфизм или вера в «нечто» – это и есть то, в соответствии с чем может быть объяснена уверенность в сохранении «уникальности». Именно в рамках этой парадигмы и может существовать то, что воспринимается как «подлинность» и «уникальность» и что невозможно опровергнуть никакими рациональными аргументами. В конечном итоге это такое «ничто» (с точки зрения рациональной парадигмы), которое как «нечто» (это выглядит как парадокс) имеет совершенно конкретное математическое выражение в виде ценового различия между «подлинником» и «подделкой».
В свое время М. Шелер, критикуя О. Конта за идею последовательности форм развития знания, заметил, что мифологическое отношение к миру в форме трансцендентальной психологии и социологии, когда предмет понимается по образу и подобию психической жизни субъекта и его социальных связей, не следует воспринимать лишь как гносеологический промах в разграничении сущностей разной природы (актуальность подобной дистинкции возникла не раньше, чем в эпоху Просвещения), в силу того, что «убеждение в реальности общества укоренилась в нас намного глубже, чем в реальности какого-либо иного предмета всех других сфер бытия и знания» [11, с. 56].
В современную эпоху экономической рациональности и неуклонного расширения сферы товаризации затруднения, возникающие в связи со стремлением точного исчисления стоимости, вполне симптоматичны. Возможно, это говорит о том, что, по крайней мере, на уровне подсознания еще жива память о другом типе социальных связей – таком, который Тённис связывал с понятием общества как Gemeinschaft и где существует экономика «каменного века», описанная Б. Малиновским [12], М. Моссом [13] и М. Салинзом [14], с присущей для нее четким делением предметов на сферы «сакрального» и «профанного». Предметы, которые принадлежат к первой группе, в рамках данного типа хозяйства всегда исключены из области чисто экономических транзакций, тогда как объекты второй выступают в качестве обычных объектов в сделках экономического характера.
Впрочем, в современности можно наблюдать не только элементы архаики в виде арьергардных боев и попыток сопротивления сторонников «подлинности» и «уникальности» перед лицом набравшего силу процесса товаризации всего и вся, не исключая
Список литературы Внерациональные факторы ценообразования на современных рынках
- Тённис Ф. Общность и общество: основные понятия чистой социологии. СПб.: «Владимир Даль», 2002. 450 с.
- Поланьи К. О вере в экономический детерминизм//Избранные работы. М.: Территория будущего, 2010. 196 с.
- Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии. М.: Изограф, 2000. 448 с.
- Маршалл А. Принципы экономической науки. В 3 т. Т. I. М.: Прогресс, Универс, 1993. 416 с.
- Гемпель К. Логика объяснения. М.: Дом интеллектуальной книги. Русское феноменологическое общество, 1998. 240 с.
- Смирнова А. П. Интерпретация эстетических феноменов с точки зрения натурализма//Вестник ИНЖЭКОНА. Серия: гуманитарные науки. СПб.: СПбГИЭУ, 2011. № 4 (47). С. 108-111.
- Антонова В. Г. Современное состояние и особенности функционирования международного рынка предметов искусства//Петербургский экономический журнал. 2015. № 3. С. 89-94.
- Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. 368 с.
- Хайдеггер М. Вещь//Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993.
- с.
- Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-Пресс, 1994. 608 с.
- Шелер М. Проблемы социологии знания. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2011. 320 с.
- Малиновский Б. Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004. 552 с.
- Мосс М. Опыт о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах//Общество, обмен, личность. Труды по социальной антропологии. М.: КДУ, 2011 416 с.
- Салинз М. Экономика каменного века. М.: ОГИ, 1999. 296 с.
- Борисов О. С., Леонов В. Е., Щербаков В. П. Медиакультура: технология, практика, рефлексия. СПб.: СПбГИКиТ, 2016. 182 с.
- Смирнова А. П. Музей в контексте массовой культуры//Медиакультура и медиаобразование II (Феномен туризма в культуре XXI века: медиатехнологии современной культуры): Материалы Международной научно-практической конференции Дни философии в Санкт-Петербурге 2014. СПб.: Фора-принт, 2014. С. 56-59.
- Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов. СПб.: Питер, 2005. 336 с.