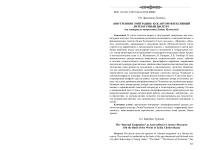"Внутренняя эмиграция" как авторефлексивный литературный дискурс (на материале творчества Лидии Чуковской)
Автор: Данилина Галина Ивановна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Ссылка, изгнанничество, эмиграция (материалы конференции)
Статья в выпуске: 3 (50), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится вопрос о «внутренней эмиграции» как литературном дискурсе. Исследование выполнено на материале эгодокументальных и фикциональных текстов Лидии Чуковской («Спуск под воду», «Прочерк», «Процесс исключения», дневниковая и мемуарная проза). Методологически статья строится на нарративном и дискурсивном анализе, с выдвижением в центр внимания проблемы языка тоталитарной власти в жизненном и литературном тексте. Автор ориентируется на концепцию тоталитарного мышления Ханны Арендт и методологические идеи А.А. Жолковского, И. Паперно, Л.Я. Гинзбург. В ходе компонентного дискурс-анализа выявляются «свидетельский» статус события и поэтика «свидетельского показания», фактографизм нарратива, нарративная идентичность автора и рассказчика, двойная повествовательная перспектива, диалогическая точка зрения по отношению к имплицитному читателю. Показано, что все компоненты объединяет авторефлексивное начало; авторефлексивность определяется как основополагающий принцип стратегии письма Чуковской и ключевой маркер ее дискурса. Анализ архитектоники повести «Спуск под воду», открывающий конфликт двух вставных текстов, приводит автора к итоговому выводу: на основе принципа авторефлексивности Чуковская последовательно разрабатывала свой литературный дискурс как направленно оппозиционный по отношению к «официальной» советской литературе и тоталитарному режиму. Отсюда в завершающей части статьи принцип авторефлексивности характеризуется как репрезентативный маркер литературной работы «внутренних эмигрантов», что в перспективе, по мнению автора, позволяет его рассматривать как типологически релевантный признак для литературных текстов «внутренней эмиграции» в целом.
"внутренняя эмиграция", арендт, авторефлексивный дискурс, антитоталитарный дискурс, лидия чуковская, "спуск под воду", нарративная идентичность, повествовательная перспектива, диалогическая точка зрения, ханна
Короткий адрес: https://sciup.org/149127194
IDR: 149127194 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00082
Текст научной статьи "Внутренняя эмиграция" как авторефлексивный литературный дискурс (на материале творчества Лидии Чуковской)
Понятие «внутренней эмиграции», появившееся в 1920-е гг, первоначально указывало на внутреннее несогласие личности с идеологией правящего тоталитарного режима в Германии и СССР. К настоящему времени определилось несколько объектов изучения «внутренней эмиграции», связанной с созданием литературных текстов - это наследие писателей-классиков XX в. (Ахматова, Цветаева, Пастернак); произведения диссидентов, публиковавшиеся в Самиздате; «неофициальная» литература («вторая культура»).
Само понятие между тем традиционно соотносится с «уклонением от участия в политической и общественной жизни государства», что делает его смысловое содержание неопределенным, поскольку отсылает к разнородным и даже альтернативным значениям - от «неучастия в делах государства» до «полного сотрудничества» с ним [Красильников 1998]. Тем самым понятие потенциально охватывает людей любой профессии, как имеющих отношение к созданию текстов, так и вне связи с ними.
В российских [Берг 2000] и зарубежных [Bannasch 2013, Golaszew-ski 2016] исследованиях социальная позиция «внутреннего эмигранта» по-прежнему остается в центре внимания. Об актуальности, а вместе с тем терминологической непроясненное™ понятия говорят и обсуждения «интеллектуальной эмиграции» [Ent-Grenzen 2006, Корчинский 2007]. Е.Ф. Иванова указывает на многоплановость «внутренней эмиграции» как социокультурного феномена, требующего разностороннего изучения, в том числе «с точки зрения используемых языка и дискурса» [Иванова
2001]. Создает ли «внутренняя эмиграция» не только социальный, но и свой литературный дискурс? Рассмотреть этот вопрос на материале текстов Л.К. Чуковской - задача данной статьи; и основываться мы будем, в соответствии с социально-историческим контекстом эпохи, на первоначальном значении понятия.
«Внутренняя эмиграция» Лидии Корнеевны Чуковской (1907-1996), длившаяся почти полвека, сопровождалась интенсивной литературной работой; ее литературное наследие включает многочисленные эгодоку-ментальные (дневники, письма, воспоминания), художественные, литературно-критические тексты. Поскольку верифицированный метод анализа литературы «внутренней эмиграции» пока не сложился, будем рассматривать творческий дискурс Л.К. Чуковской исходя из ее самоанализа и самооценок, на основе писательской авторефлексии.
Начало своей писательской работы Л.К. Чуковская связывает с тяжелым личным опытом в годы «большого террора» (арест и гибель мужа, известного физика М.П. Бронштейна): «Тридцать седьмой рвался из меня наружу <...> Я впервые взялась за перо потому, что не писать не могла. Писала я не о Мите и не о себе <...>, но продиктовано было каждое слово Митиной судьбою, оледенелою набережною Невы» [Чуковская 2013b, 437-439]. Личный трагический опыт со временем обретает экзистенциальное значение как источник литературного творчества. «Когда наконец будет понято (цитирую дневник Л.К. Чуковской за 1958 г. -ГД.), что художественное произведение рождается не из наблюдений над жизнью, а из душевного потрясения» [Чуковская 2015, 128].
Размах сталинских репрессий и бесчисленность жертв превращали личное в общезначимое, но истинное положение дел, как известно, скрывалось и замалчивалось. «Убийство правдивого слова <...> идет оттуда, из окаянных сталинских времен» [Чуковская 2010, 229], - подчеркивала Чуковская. - «Окруженный немотою, застенок желал оставаться и всевластным и несуществующим зараз; он не хотел допустить, чтобы чье бы то ни было слово вызывало его из всемогущего небытия» [Чуковская 2013, I, 12]. Долг писателя Чуковская видит в том, чтобы «говорить правду» [Чуковская 2015, 223], т.е. записывать, запоминать, сохранять то, что происходило в реальности: «Я смотрела на нее (на повесть «Софья Петровна» - ГД.) не столько как на повесть, сколько как на свидетельское показание, уничтожить которое было бы бесчестно» [Чуковская 2012а, 342].
Писатель как свидетель времени - так намечается стратегия письма Чуковской. Событийный ряд в ее произведениях образуют скрываемые властью социальные и литературные события в эпоху, когда «вся литература, когда подлинная история целых десятилетий подменена вымышленной» [Чуковская 2010, 8]: аресты и репрессии, разгон ленинградской редакции Детгиза в 1930-е, преследование инакомыслящих в 1960-е гг, высылка Солженицына, суд над Бродским; отзывы о «запрещенных» писателях, книгах и текстах. Нарратив приближен к «свидетельскому показанию» и сориентирован на передачу событий в документальной полноте и почти стенографической точности (Чуковская часто использовала свои стенограммы писательских заседаний, докладов, выступлений).
В силу невозможности высказываться свободно Чуковская создавала свою систему кодирования и, воспроизводя в записях эпохи террора разговоры с современниками, «опускала или затемняла главное их содержание»; оставляла «какой-нибудь знак, намек, какие-нибудь инициалы для будущего...» [Чуковская 2013, I, 11]. Личные писательские коды - характерная черта литературной работы в условиях репрессивных режимов [Штраус 2012] и репрезентативный маркер дискурса «внутренней эмиграции».
Композиционная форма большинства текстов Чуковской также приближена к «свидетельскому показанию»; четкая датировка событий, их последовательная регистрация в общем потоке дней, без разделения на главное и второстепенное, формируют впечатление жизненной достоверности рассказа. Повседневные обстоятельства и будничные заботы в ее дневниках и воспоминаниях фиксируются с той же определенностью, что и социально значимые факты. «Тут нужна календарная монотонность, кажущаяся непосредственность, кажущаяся наспех, случайность, “что попало”», - говорила Чуковская о своей «ахматовиане» [Чуковская 2015, 354].
Главные герои книг Чуковской, как и события, о которых она сообщает, для «официальной» литературы находятся в зоне молчания. «Собираю, коплю черточки душевного и наружного облика Ахматовой» [Чуковская 2012а, 137] - это замечание Чуковской отражает принцип ее работы по отношению и к другим персонажам ее эгодокументальной прозы, среди которых знаменитые, малоизвестные, сугубо частные лица. В основу каждого портрета положен фактографический материал, в том числе и самые обыденные вещи, мелкие бытовые детали. Клубки разноцветной шерсти в руках Цветаевой в Чистополе, приготовленные на продажу, усталая и непричесанная Ахматова, ее рваный халат, надсадный коммунальный быт в Фонтанном доме, в Ташкентской эвакуации; а рядом цитируются классически совершенные стихи, в этих стенах и обстоятельствах написанные. Эгодокументальность - жанровая доминанта текстов Чуковской, ее творческого дискурса: «А мой жанр <...>- воспоминания, дневники, портреты. Чужая судьба, проведенная сквозь сердце» [Чуковская 2013, III, 490]. «Очень емкое, очень ясное письмо, все и всех вижу наяву» [Гелескул 2012, 375], - писал А.М. Гелескул о прозе Чуковской.
Личностный аспект выходит на первый план и в организации повествовательной перспективы автор - рассказчик - читатель. На уровне точки зрения, в свете которой представлены события, проступает нарративная идентичность «биографического» автора и «я» рассказчика [Рождественская 2010], раскрывающая участную и ценностно ориентированную позицию личности. Рассказчик в роли наблюдателя «со стороны», с объективно бесстрастным взглядом, в текстах Чуковской, как кажется, невозможен; его отличает бескомпромиссность этических и эстетических суждений и их эмоциональный накал.
Однако повествовательная перспектива, ведущая уже не от автора к рассказчику, а от рассказчика к читателю, намечает иной ракурс взгляда и соответственно иную точку зрения на рассказываемое. Это спокойный, дистанцированный подход к услышанному, внимательный взгляд человека, намеренного понять суть дела, самостоятельно разобраться в фактах и событиях тоталитарного прошлого. «Необходимо исследовать, что произошло <...>, - подчеркивала Чуковская. - Тут огромная работа для историка, для философа, для социолога, но прежде всего для писателя» [Чуковская 2010, 34-35]. И здесь в словах рассказчика уже нет «ни тени авторского присутствия» [Гелескул 2012, 375] и виден «аналитический взгляд» [Злобин 2012, 369], отражающий диалогическое отношение автора к читателю. Читателя не учат и не обвиняют, ему не навязывают той или иной точки зрения; ему рассказывают, как другу, как брату: «Пишу книгу, чтобы найти братьев»; «будущие братья, которым я все расскажу» [Чуковская 2012b, 148, 193].
Дискурс Чуковской, таким образом, концентрируется вокруг личности и направлен на личность. Перечитывая в конце 1960-х «Войну и мир», писательница записывает в дневнике: «Главная мысль, что делают историю массы, а личность - Кутузов, Наполеон - сильна только покоряясь воле масс <...>- верна ли эта мысль? Для XX века - нет. При наличии радио, газет, телевидения личность, захватив все это, может, по собственной, личной воле нажатием пропагандной кнопки сама создавать “волю масс”. Я думаю, что в нашем обезличенном веке личность - и положительная и отрицательная - играет огромную роль» [Чуковская 2015, 222].
Свой литературный дискурс Л.К. Чуковская целенаправленно разрабатывала в противопоставлении «официальной» советской литературе. Особое значение в этом плане имеет повесть «Спуск под воду» (1949-1957), которая, по оценке автора, «не о лагерях, а о слове - гражданском и поэтическом» [Чуковская 2015, 235]. Здесь «официальный» литературный дискурс выступает как предмет изображения, а противостояние ему становится принципом, объединяющим сюжет и конфликт, хронотопическую и мотивную структуру, персонажей и рассказчика в единое целое.
Место действия - писательский Дом Творчества, куда приезжает переводчица Нина Сергеевна, - автобиографический рассказчик. Сюжет построен на резком и по мере развития действия все более усиливающемся контрасте между благополучным, замкнутым писательским мирком и совсем иной, предельно жесткой жизненной реальностью. С одной стороны - голубой нарядный писательский дом («ковры, сверкающий паркет и рояль в гостиной»), с другой - разоренная деревня Быково, бедные домишки и безнадежная нищета жителей. К реальной действительности не имеет отношения и язык радиопередач и газет: «Прочесть я могу, но узнать что-нибудь - нет. Буквы складываются в слова, слова в строки, строки в абзацы, абзацы в статьи, но ничто - в мысли, чувства и образы. <.. .> „Как неотъемлемый элемент социалистической культуры, шахматы стали средством культурного воспитания колхозных масс“. Я попыталась вообразить себе каких-нибудь мальчиков и стариков и шахматные доски в избах, но мне это не удалось [Чуковская 2012b, 133]. «В словах нет ни грана правды <.. >, это готовые клише, а не мысли».
Архитектонический центр повести организуется соположением двух вставных писательских текстов, концентрирующих ее дискурсивный смысл. Это безымянный рассказ Нины Сергеевны и синопсис повести ее нового знакомого Билибина «Федосьина победа». Романист Билибин, репрессированный в тридцать седьмом, детально рассказывает Нине Сергеевне о годах заключения, а затем дает ей прочесть свою повесть, написанную на основе воспоминаний. При переходе из устной формы в письменную события и люди меняются до неузнаваемости: был лагерь - стала передовая шахта, был погибший друг - появился жизнерадостный красавец-шахтер; мучивший заключенных надзиратель обернулся инженером-вредителем. Главный герой забойщик Петр - лицо вообще условное: «Его я что-то совсем не узнаю. Такого в его рассказе не было», как не было и жены Петра Федосьи, и мудрого парторга, и представительницы народа бабки Марьи. В кратком изложении сюжет звучит как пародия:
«Федосья умело ведет агитацию. Петр недоволен: он привык к кайле и не хочет переучиваться. "Папка, - говорит Петру болезненный пятилетний сынок, -ты мамку не трожь, а то я товарищу Сталину напишу. Он за нас заступится, он рабочего человека в обиду не даст ". Ребенок в буран, на своих слабеньких ножках, падая и спотыкаясь, бежит к парторгу. Парторг пытается урезонить Петра, но Петр уперся. Тогда парторг поручает сердечно поговорить с ним бабке Марье, потерявшей на войне четырех сынов. Бабка нашла те слова, которые перевернули Петрово нутро. Петр повинился перед Федосьей». [Чуковская 2012b, 231-232]
Чуковская, много лет работавшая литературным редактором, наверняка видела немало подобной прозы, превращающей реальность в идеологический миф. Реакция Нины Сергеевны: «Чувство стыда было такое сильное, что время остановилось». «Вы лжесвидетель», - говорит она Билибину [Чуковская 2012b, 233].
Лжесвидетельство - главное обвинение, предъявляемое от лица рассказчика «Федосьиной победе» как репрезентанту «официальной» литературы. Факт подменяется фикцией, личность теряет какое бы то ни было значение и растворяется во внеличном «мы»; все персонажи - голоса абстрактного коллектива. «Всезнающий» автор настроен исключительно на монолог, мифологизация носит сплошной характер и охватывает все целое текста.
Рассказ Нины Сергеевны, тоже вырастающий из личных воспоминаний о пережитом в годы террора, основан, напротив, на соответствии фактическому положению дел. Автор дает описание происходившего в 1937 г. у Большого дома в Ленинграде, где жены и матери арестованных сутками стояли в очередях в справочный отдел. В повествовании передается безграничность испытанного унижения, подавления в каждом его души и личности. [Чуковская 2012b, 205-215]; дискурс построен как отчетливая антитеза «билибинскому»; в его авторефлексивном оформлении проявляется последовательно разрешаемая писательская задача.
«С советской властью, с коммунизмом у Лидии Корнеевны были не поверхностные социально-политические, идеологические разногласия, -отмечал один из современников Чуковской. - Нет - был глубочайший непримиримый, стилистический, языковой антагонизм» [Карякин 2015, 11]. Дискурс «официальной» литературы Чуковская считала репрессивным по отношению к языку, видела в этом одну из ключевых черт тоталитарного режима. В ее литературном дневнике есть следующая запись с отсылкой к работе Зейд ел ей «Изменения в языке в период Третьего рейха»: «Застенки можно закрыть пестрыми фасадами, вопли ужаса можно заглушить мелодиями маршей, но варвар тотчас выдает себя, как только раскроет рот <...>. Яд, проникающий в организм языка, привычка к обессмысливанию слов, к разболтанности языка, ко лжи в использовании слов» [Чуковская 2001,541].
Все рассмотренные компоненты дискурса Чуковской - «свидетельский» статус события, фактографизм нарратива, двойная повествовательная перспектива, аналитичная точка зрения и диалогическое отношение автора к читателю - объединяет принцип авторефлексивности, это, невидимому определяющий для дискурса Чуковской момент. Насколько он репрезентативен, может ли рассматриваться в качестве релевантного признака для литературы «внутренней эмиграции»?
Л.Я. Гинзбург в воспоминаниях о сталинском времени писала о «завороженных», имея в виду завороженность идеей абсолютной власти в лице Сталина; в нем могли видеть воплощение «мирового Духа» и «Абсолютного Субъекта» [Зелинский 2000, 318]. Как показало исследование, проведенное И. Паперно, «гегельянское представление об истории, отождествляемой с властью как воплощением истории» [Паперно 2004, 117], для советской интеллигенции было кодифицировано книгой Герцена «Былое и думы». «В Советской России, - отмечает автор, - “завороженность” как всепоглощающая эмоция была завороженностью историзмом, укрепленным в своей проникающей силе с помощью литературы, которая в автобиографических жанрах довела такой историзм до отдельного человека [Паперно 2004, 114].
Гегель увлекал даже писателей, далеких от идеологического мышления [Морозова 2017]; однако Лидии Чуковской завороженность такого рода не была свойственна. В работе А. Жолковского о языке власти в жизненном и поэтическом тексте Ахматовой есть выразительные примеры того, как ясно Чуковская умела видеть проявления деспотической властности и «репрессивный сюжет» в поведении даже самых близких ей людей [Жолковский 2005].
Чуковская не тяготела и к философским концепциям, о своих студенческих штудиях отзывалась с иронией: «...в поисках мировоззрения, отсутствие которого представлялось мне постыдным, я, кроме учебных за- даний, пробую читать Гегеля, Фихте, Фейербаха... Я слышала, что мировоззрение добывается умными людьми из философии <...>. Гегель мне решительно не по зубам, и я чуть не со слезами конспектирую длинные, переводчески неуклюжие, бесконечные периоды ... Нет, Гегель решительно не помогает отыскать и выбрать для себя подходящее мировоззрение» [Чуковская 2013b, 366]. И далее сказано: «Не понимая, что мировоззрение человек добывает ценою опыта целой жизни, я хотела приобрести его из книг».
Философским идеям Чуковская противопоставляла независимое мышление на основе личного опыта; примечательна в этом плане дневниковая запись 1940-х гг.: «Я совсем не умею думать, и у меня нет никакой философской подготовки. Но думаю я вот что» [Чуковская 2015, 63]. Показательно и отношение Чуковской к Герцену. Она неустанно читает Герцена и пишет о нем [Чуковская 1966]; в замечательной работе Ю.Б. Сычевой раскрыто его глубокое значение [Сычева 2003]. Но главным для Чуковской были не философские идеи, а именно литературный, писательский дискурс Герцена, высоко ею ценимый за авторефлективное начало. Об этом выразительно говорится в дневниковой записи 1963 г: «А могла ли бы я написать свои “Былое и думы” <.. .>? Нет, я не могу и теперь прикоснуться словом, рассказать (о гибели мужа - ГД.\ <...>. Вот в чем его величие. Перенести не штука - это зависит от крепости сердечной мышцы, а вот рассказать, сделать из боли мысль, слово -<...> вот это сила, вот это подвиг» (курсив Л.Ч.) [Чуковская 2015, 147-148].
Ханна Арендт в монографии «Истоки тоталитаризма» противопоставляет авторефлексивное, основанное на личном опыте, и тоталитарное, идеологическое мышление. В тоталитарном сознании, - отмечает она, -«движение мысли не вырастает из опыта, а самопорождается из однажды принятого и неизменного мысленного материала» [Арендт 1996, 612]. Поэтому «Тоталитарная пропаганда преуспевает в уходе от реальности» и создает «целый лживый мир» под знаком идеологической доктрины [Арендт 1996, 464-466].
Повесть «Софья Петровна» сегодня называют «антитоталитарной»; антитоталитарным можно назвать сам дискурс Чуковской: опора на личный («свидетельский») опыт и аналитическая точка зрения характеризуют его как направленно оппозиционный по отношению к тоталитарному режиму. Авторефлексивность тем самым представляется возможным рассматривать как типологически релевантный признак для литературных текстов «внутренней эмиграции» в целом.
Список литературы "Внутренняя эмиграция" как авторефлексивный литературный дискурс (на материале творчества Лидии Чуковской)
- Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996
- Берг М. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. М., 2000
- Гелескул А.М. Письмо Л.К.Чуковской // Чуковская Л.К. Софья Петровна: повести; стихотворения. М., 2012 С. 368-372.
- Жолковский А.К. Анна Ахматова - пятьдесят лет спустя // Жолковский А.К. Избранные статьи о русской поэзии. М., 2005 С. 139-174.
- Зелинский В.К. Гегель и государство абсолютного субъекта // Судьбы гегельянства: философия, религия и политика прощается с модерном. М., 2000 С. 305-321.
- Злобин С.П. Письмо Л.К. Чуковской // Чуковская Л.К. Софья Петровна: повести; стихотворения. М., 2012 С. 368-372.
- Ent-Grenzen - За пределами: интеллектуальная эмиграция в русской культуре ХХ века / под ред. Л. Бугаевой и Е. Хаусбахер. Frankfurt am Main, 2006
- Иванова Е.Ф. Феномен внутренней эмиграции // Век толерантности. 2001 Вып. 1-2. URL: http://www.tolerance.ru/VT-1-2-fenomen. php?PrPage=VT (дата обращения 27.03.2019).
- Карякин Ю. Память как совесть // Чуковская Л.К. "Дневник - большое подспорье…". М., 2015 С. 5-13.
- Корчинский А. За пределами эмиграции // Новое литературное обозрение. 2007 № 86 С. 389-394.
- Красильников С.А. Феномен и природа конформизма российской интеллигенции в ХХ веке // Известия Уральского государственного университета, 1998 № 8 С. 81-85.
- Морозова С. Н., Жаткин Д.Н. Восприятие К.И. Чуковским философии Гегеля // Гуманитарные исследования. 2017 № 1 (61). С. 33-39.
- Паперно И. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // Новое литературное обозрение. 2004 № 68 С. 102-127.
- Рождественская Е.Ю. Нарративная идентичность в автобиографическом интервью // Социология: методология, методы, математическое моделирование (4М), 2010 № 30 C. 5-26.
- Сычева Ю. Б. "Люблю свой гнев" // Лебедь: независимый бостонский альманах. 2003 № 349; 350 URL: http://lebed.com/2003/art3561.htm (дата обращения: 29.03.2019).
- Чуковская Л.К. "Былое и думы" Герцена. М., 1966
- Штраус Л. Преследование и искусство письма // Социологическое обозрение. 2012 Т. 11 С. 12-25.