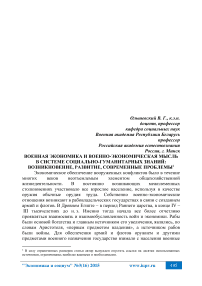Военная экономика и военно-экономическая мысль в системе социально-гуманитарных знаний: возникновение, развитие, современные проблемы
Автор: Ольшевский В.Г.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 3-2 (16), 2015 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140113993
IDR: 140113993
Текст статьи Военная экономика и военно-экономическая мысль в системе социально-гуманитарных знаний: возникновение, развитие, современные проблемы
Экономическое обеспечение вооруженных конфликтов было в течение многих веков неотъемлемым элементом общехозяйственной жизнедеятельности. В постоянно возникающих межплеменных столкновениях участвовало все взрослое население, используя в качестве оружия обычные орудия труда. Собственно военно-экономические отношения возникают в рабовладельческих государствах в связи с созданием армий и флотов. В Древнем Египте – в период Раннего царства, в конце IV – III тысячелетиях до н. э. Именно тогда начала все более отчетливо проявляться взаимосвязь и взаимообусловленность войн и экономики. Рабы были основой богатства и главным источником его увеличения, являлись, по словам Аристотеля, «первым предметом владения», а источником рабов были войны. Для обеспечения армий и флотов оружием и другими предметами военного назначения государство взимало с населения военные налоги, проводило сборы продовольствия и фуража.
Постепенно формировалось военное производство, развивалась его специализация. Создавались основанные на рабском труде мастерские по изготовлению оружия. Для обеспечения повседневной деятельности войск развивается войсковое хозяйство, которое было слабо связано с хозяйством страны. Важнейшим источником удовлетворения текущих потребностей (в продовольствии и фураже) были военная добыча и прямой грабеж населения мест дислокации войск.
По мере развития производства, увеличения масштабов войн и численности армий роль экономики в военном деле возрастала. Различные аспекты усиливающихся взаимосвязей и взаимозависимости войны и экономики нашли отражение в многочисленных высказываниях известных государственных и военных деятелей, научных работах по истории, экономике и военному делу, в художественной литературе разных эпох.
Экономические взаимосвязи войн и экономики все больше становились и предметом научного анализа. Первым в России источником, рассматривающим военные вопросы в системе организации общества и государства, была «Книга о скудости и богатстве», написанная ставшим успешным предпринимателем и помещиком крестьянином, И. Т. Посошковым еще в 1721–1724 гг., т. е. более чем за 50 лет до появления «Богатства народов» А. Смита (1776 г.). В ней, в частности, подчеркивалась необходимость максимального освобождения армии от хозяйственных забот и сосредоточения ее исключительно на военной деятельности. Обращаясь к Петру I, Посошков писал, что воинство должно быть обеспечено всеми видами довольствия, иметь на вооружении наилучшее оружие и мастерски владеть им и всеми премудростями военного искусства, поэтому нельзя отвлекать воинов от ратного дела [1, c. 259].
Уже сложившееся к началу ХIХ в. военное хозяйство было впервые в мире в определенной степени охарактеризовано в изданной в 1820–1823 гг. на немецком языке обширной – более 1 тысячи крупномасштабных страниц – книге «Über die Militär-Ökonomie im Frieden und Kriege und ihr Wechselverhältniss zu den Operationen» («О военной экономии в условиях мира и войны и ее взаимосвязях с военными операциями»), написанной генерал-лейтенантом Е. Ф. Канкрином, руководившим в 1812–1824 гг. снабжением и продовольствием русской армии, впоследствии – генералом от инфантерии, бывшим более 20 лет (1823–1844) министром финансов страны. Автор выделил в военном деле чисто военную, техническую и политикоэкономическую стороны, дал общий обзор военной экономики как эмпирической науки, специфически преломляющей учения о государстве и экономике в их взаимосвязи с войной, формированием, наращиванием и текущим поддержанием военной мощи (обеспечение продовольствием, снаряжением, жильем, денежными выплатами, здравоохранением, управление территориями, военными объектами, организация военноэкономического управления, счетоводства, учета и контроля). Особенно подробно и обстоятельно были рассмотрены принципы снабжения армии в мирное и военное время, организация закупок и поставок конкретных предметов довольствия: зерна, круп, соли, сухарей и т. п. [2, c. 94–96].
Большое значение экономических факторов в войне стало особенно зримым с переходом от доиндустриальной к индустриальной стадии развития. Крупное машинное производство и прогресс вооружения создали экономические предпосылки для формирования массовых армий. Изменился облик военного производства, вслед за ним менялись характер войн и требования войны к экономике, способы обеспечения военного строительства, подготовки и ведения войн. На эти изменения обращали внимание многие ученые, например, А. Смит. О военно-экономических проблемах немало писали К. Маркс и Ф. Энгельс. В 1886 г. в одном из своих писем Энгельсу Маркс отмечал: «Наша теория об определении организации труда средствами производства нигде, кажется, так блестяще не подтверждается, как в ”человекоубойной промышленности”» [3, c. 197].
По оценкам современных исследователей [4, c. 15], первой в истории человечества войной индустриального типа было военное столкновение между Пруссией и Австрией 1866 г., в ходе которого прусская армия под командованием начальника Генерального штаба, будущего фельдмаршала Хельмута фон Мольтке-ст. впервые широко использовала железные дороги для массовой перевозки войск. В течение многих веков, вплоть до середины XIX в., войны имели доиндустриальный характер. Элементами военной силы были: люди и животные, продовольствие и фураж, оружие, произведенное главным образом на мануфактурных предприятиях без машинного оборудования. Промышленные технологии создали оружие, обладающее всеми свойствами машины, прежде всего способностью к самостоятельному передвижению.
Происходящие изменения в военном деле вызвали обширную литературу по военно-экономическим проблемам. В частности в России во второй половине XIX в. развернулась широкая дискуссия по вопросам теории военного хозяйства, в которой активное участие принимали: генерал-майор, профессор, начальник кафедры военной администрации Николаевской академии Генерального штаба, изучавший постановку военного хозяйства и администрации в иностранных государствах В. М. Аничков; полковник, штаб-офицер «для начальствования над образуемыми в Николаевской академии Генерального штаба офицерами», уволенный по болезни генерал-майором в отставку А. И. Астафьев; один из главных фигурантов военных реформ императорской России 60-х гг. XIX в., генерал от инфантерии, начальник Главного штаба в 1881–1897 гг., профессор Николаевской академии Генерального штаба, преподававший на кафедре военной статистики Н. Н. Обручев; участник четырех войн, много сделавший в качестве генерал-интенданта для хозяйственного обеспечения русских армий в периоды Польской (1831) и Венгерской (1849) кампаний, Крымской войны (1853–1856) генерал от инфантерии, впоследствии необоснованно скомпрометированный и исключенный из службы Ф. К. Затлер; генерал-лейтенант, директор департамента железных дорог, преподававший в течение десяти лет военную географию в Императорской военной академии, теоретик и практик территориального управления П. А. Языков; генерал-фельдмаршал, военный министр (1861–1881), профессор по кафедре военной географии и статистики Императорской военной академии, инициатор учреждения в 1858 г. журнала «Военный сборник» Д. А. Милютин и другие известные в то время военные авторы.
В конце XIX в. большое влияние на развитие военно-экономической мысли в России оказало появление ряда трудов, в том числе В. М. Аничкова, А. И. Астафьева, А. А. Гулевича. В 1898 г. известный русский экономист, статистик и финансист И. С. Блиох опубликовал фундаментальный пятитомный труд «Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношениях», в котором на огромном фактическом материале доказал, что будущие войны неизбежно приведут к катастрофическим последствиям, разорению народов.
В конце XIX в. об опасностях будущих войн предупреждали и другие ученые и общественные деятели. Некоторые специалисты, в том числе изобретатель динамита А. Нобель, считали, что разрушительная мощь новых средств вооруженной борьбы настолько огромна, что война становится все более и более немыслимой. С учетом этих обстоятельств в 1899 и 1907 гг. в Гааге состоялись международные мирные конференции, принявшие конвенции о законах и обычаях войны, содержащие положения о мирном разрешении международных споров, нейтралитете, защите мирных жителей, режиме военнопленных, участи раненых и больных и т. д.
В 1911 г. в Великобритании была опубликована книга будущего лауреата Нобелевской премии мира 1933 г. Н. Энджелла «Великое заблуждение: Этюд об отношении военной мощи наций к их экономическому и социальному прогрессу». Автор доказал экономическую бессмысленность войн по причине их неокупаемости и для побежденных, и для победителей. За короткое время книга разошлась двухмиллионным тиражом и была переведена на более чем 25 языков. Ею зачитывались все грамотные и мыслящие люди.
Однако ни предупреждения ученых, писателей и общественных деятелей, ни антивоенные решения, принятые на Гаагских мирных конференциях, оказались не в состоянии удержать мир от вползания в Первую мировую войну и от расходования огромных ресурсов на военные цели.
С точки зрения эволюции военно-экономической теории значительный интерес представляют опубликованные в начале XX в. труды известного экономиста, профессора и заведующего кафедрой политэкономии Петербургского политехнического института, впоследствии профессора столичного университета, почетного доктора Кембриджского университета, директора Экономического департамента МИД, академика Российской академии наук, одного из представителей русского «легального марксизма» П. Б. Струве, специалиста в области финансовой науки, впоследствии первого ректора Института народного хозяйства в Петрограде, члена-корреспондента АН СССР М. И. Боголепова, профессора Николаевской академии Генерального штаба и созданной в 1912 г. Интендантской академии, генерала от инфантерии Ф. А. Макшеева и др., в которых была сделана попытка показать тенденции к увеличению военных потребностей, осмыслить новые требования к экономическому обеспечению войн, мобилизационной подготовке экономики и т. д. Эти авторы, как и ученые других стран мира, не могли еще достаточно ясно предвидеть те революционные изменения, которые внесли войны XX в. в способы удовлетворения военных потребностей. Однако уже тогда хорошо знающий военную сферу Ф. А. Макшеев c учетом опыта начавшейся Первой мировой войны четко выделил в военной экономике две части: хозяйство страны и собственно хозяйство вооруженных сил (ВС). Это разделение позже привело ученого к мысли о необходимости введения в Интендантской академии наряду с курсом военного хозяйства курса военной экономики. Но эту задачу он адресовал уже не интендантам: по мнению ученого, она лежит на экономистах-финансистах и политэкономах [5, ч. 1, с. 64].
Мировая война предъявила небывалые требования к экономике. В военных действиях были впервые применены новые виды оружия и боевой техники: пулеметы, танки, моторизованная тяжелая артиллерия, самолеты, химические вещества. Резко возросли потребности в экономических ресурсах. На финансирование войны ее участники затратили 208,1 млрд долл. Совокупные военные расходы воюющих государств увеличились более чем в 20 раз. Из общего объема материальных средств, использованных армиями, только 10 % составили довоенные запасы, а 90 % создавались в ходе войны. Это потребовало подчинения интересам войны значительной части экономического потенциала и индустриальной мощи [4, с. 89–90].
В период Первой мировой войны началось формирование нового типа организации военной экономики. В условиях чрезвычайного увеличения военных потребностей государство распределяло ресурсы, устанавливало цены и нормы личного потребления, взяло под жесткий контроль заработную плату и другие доходы, трудовые отношения, по его заказам производились товары военного назначения, для выпуска которых использовались производственные мощности гражданских отраслей и предприятий. Сложился особый вид хозяйствования, отличающийся новым уровнем централизации и государственного контроля.
В результате применения многомиллионными армиями новых, более разрушительных средств ведения войны чрезвычайно выросли людские и материальные потери. Гибель людей приобрела столь огромные масштабы, что в отдельных сражениях число жертв было примерно таким же, как людские потери в целых войнах в предыдущие эпохи. В этой войне французы потеряли почти 20 % мужчин призывного возраста, а немцы - 13 %. Всего же, по некоторым оценкам, погибло 26 млн человек; по крайней мере, еще около 20 млн получили увечья и контузии или стали инвалидами; война сделала беженцами 4 - 5 млн человек. Стоимость материальных разрушений оценивается в 28 млрд долл., а косвенные потери (от сокращения производства, замедления темпов общего экономического развития, падения производительности труда, изменения структуры хозяйства в результате его переориентации на удовлетворение военных потребностей, нарушения нормальных экономических отношений между государствами, сокращения объема накоплений, нарушения хода воспроизводственного процесса и т. д.) – в 152,6 млрд долл. [4, c. 311–312, 325–326].
В результате обозначенных перемен военно-экономические вопросы из разряда узко специализированных, интендантских переместились в ранг вопросов большой политики, не только военной, но и государственной стратегии в целом, общественной науки. Попытки раскрыть изменившиеся формы взаимосвязей экономики, политики и войны на качественно новой стадии общественного развития были предприняты еще до начала мирового пожара в работах английского экономиста и публициста Дж. А. Гобсона, лидеров и теоретиков германской и австрийской социал-демократии и II Интернационала, будущих министров Веймарской республики К. Каутского и Р. Гильфердинга, российского еще социал-демократа В. И. Ленина и других авторов. В годы войны и в послевоенный период существенно выросло значение военно-экономических исследований, заметно ускорилось развитие военно-экономической мысли. В России, Англии, Германии, Франции и других странах появилась обширная литература об экономике войны, ее последствиях, качественных изменениях, которые произошли в методах экономического обеспечения военных потребностей, о технических, экономических, политических и собственно военных аспектах будущих войн [cм.: 2 и др.].
В 1931 г. в США была издана книга одного из самых выдающихся американских экономистов первой половины ХХ в., специалиста в области накладных расходов в экономике Дж. М. Кларка, сына профессора Колумбийского университета Дж. Б. Кларка, посвященная издержкам
Первой мировой войны для американского народа. В этой научной работе, а также в последовавшей за ней в 1935 г. «Экономике плановых общественных работ» он развивал концепции мультипликатора и акселератора государственных расходов в русле кейнсианского «анализа потока доходов», хотя впоследствии критиковал модели экономической стабилизации Дж. М. Кейнса и стал приверженцем экономического институционализма.
Таким образом военные, в том числе и военно-экономические, вопросы стали составными элементами наук об обществе. С другой стороны, именно в этот период сложилась система военно-экономических знаний как относительно самостоятельное направление научных исследований объективно существующей военной экономики и учебный предмет в системе военного образования.
После Первой мировой войны военные расходы и военное производство во всех странах существенно сократились. Вместе с тем в США, Великобритании, Франции уделялось большое внимание развитию военной техники и мобилизационной подготовке экономики. В США в 1920 г. был принят закон о национальной обороне, направленный на повышение мобилизационной готовности военно-промышленной базы, в соответствии с которым в аппарате помощника военного министра была создана специальная организация промышленного планирования, планирующая закупки военной техники, а впоследствии разрабатывающая планы мобилизации промышленности. Для повышения мобилизационной готовности экономики стали создаваться запасы промышленного оборудования.
В 1938 г. конгресс США учредил государственную корпорацию по строительству военных предприятий. Ее полномочия позволяли расширять существующие производства, строить и оснащать новые предприятия. Она имела также полномочия привлекать промышленные организации к оказанию помощи в создании и эксплуатации предприятий в государственных интересах. Фактически в США был создан прототип военной экономики в условиях мира. Основу военно-промышленной базы составляли государственные арсеналы и верфи, где разрабатывались и выпускались вооружения и военная техника. Вместе с тем некоторые виды вооружения и военной техники производились частными фирмами.
Особое внимание уделялось проблемам экономической мобилизации и в СССР. В работах начальника штаба Красной Армии и начальника Военной академии, впоследствии, на последнем году жизни в 1925 г. – председателя Реввоенсовета СССР и наркома по военным и морским делам М. В. Фрунзе, пользующегося особым уважением И. В. Сталина выдающегося штабиста, командующего войсками Ленинградского, затем Московского военных округов, впоследствии начальника Штаба РККА, начальника, военного комиссара и профессора Военной академии им. М. В. Фрунзе, начальника Генерального штаба РККА, маршала (1940 г.) Б. М. Шапошникова и других авторов, в том числе – русского зарубежья, подчеркивалась необходимость такой организации страны еще в мирное время, чтобы ее можно было в случае необходимости быстро, легко и безболезненно перевести на военные рельсы, рассматривались вопросы создания мобилизационных запасов, подготовки армии и театра военных действий, обеспечения армии всем необходимым, экономической политики государства во время войны и т. д.
Более 120 работ по вопросам стратегии, оперативного искусства, тактики, вооружения, обучения и воспитания войск принадлежат перу Маршала Советского Союза М. Н. Тухачевского. Им были сформулированы важные теоретические положения об изменении роли авиации и танков в будущих войнах, необходимости соответствующего экономического обеспечения новых методов ведения боев и войсковых операций, а также разработаны теория глубокого боя, непрерывных операций на одном стратегическом направлении; уже в 1931 г. он ставил вопросы о создании и отработке действий крупных механизированных соединений, в ноябре 1932 г. добился начала работ по конструированию ракетных двигателей на жидком топливе, а в сентябре 1933 г. – создания Реактивного НИИ, занимавшегося созданием ракетного оружия в СССР.
Особое место в ряду других источников военно-экономической мысли занимает фундаментальная работа известного российского специалиста в области военной стратегии, профессора Академии Генерального штаба РККА, впоследствии комдива (генерал-майора) А. А. Свечина «Стратегия». В ней проанализированы политическая и экономическая обусловленность войн, их экономические, политические и дипломатические планы и только на этой основе – планы строительства ВС, военно-экономической мобилизации и формы ведения военных действий. Труд А. А. Свечина и сегодня остается образцом комплексного макросоциального военноэкономического и военно-политического анализа.
В 30-х гг. в мире, особенно в странах фашистского блока, ставших на путь подготовки новой войны, заметно ускорилось развитие военной экономики. Наибольшего размаха военное производство достигло в гитлеровской Германии, которая заранее отмобилизовала свои экономические ресурсы, накопила большие запасы военной продукции и оказалась экономически наиболее подготовленной к масштабной войне. Мобилизация экономики Германии не происходила, как в 1914 г., в форме кратковременного периода в начале войны, а была растянута на длительное время задолго до ее начала.
В СССР с середины 30-х гг. публикация военно-экономических работ прекратилась практически полностью на долгие годы. Но поскольку неизбежность войны с «капиталистическим окружением» не вызывала сомнений, социалистическая экономика СССР формировалась как экономика подготовки к войне. Созданная в годы индустриализации промышленность не разделялась на гражданскую и военную. Она была способна перейти к выпуску вооружения по единому мобилизационному плану, тесно сопряженному с графиком мобилизационного развертывания армии. При этом советская мобилизационная экономика внешне не выглядела сверхмилитаризованной. В отличие от царской России, которая оснащала армию оружием, производимым преимущественно на специализированных «казенных» заводах, технологически не связанных с находившейся в частной собственности гражданской промышленностью, в СССР армия оснащалась вооружением, производимым на основе американской модели – с использованием технологий двойного назначения. При помощи американских специалистов были построены огромные, самые современные для того времени тракторные и автомобильные заводы, причем производимые на них тракторы и автомобили конструировались таким образом, чтобы их основные узлы и детали можно было использовать при выпуске танков и авиационной техники. Химические заводы и предприятия по выпуску удобрений ориентировались с самого начала на производство в случае необходимости взрывчатых и отравляющих веществ. Создав мощную и современную автотракторную промышленность, СССР, начиная с 1932 г. и до второй половины 30-х гг. (начала перевооружения Германии) производил больше танков и самолетов, чем остальные страны мира, вместе взятые. Тем не менее, основные усилия советского руководства в эти годы направлялись все же не на развертывание военного производства и ускоренное переоснащение армии на новую технику, а на развитие базовых отраслей экономики (металлургия, топливная промышленность, электроэнергетика и т. д.) как основы развертывания военного производства в случае войны. По оценке уже ушедшего из жизни члена Совета по внешней оборонной политике России В. В. Шлыкова, тридцать лет прослужившего в советской разведке, в том числе в качестве начальника ее военно-экономического управления, в конце 30-х гг. в СССР отказались от прежней системы мобилизационной подготовки экономики и перешли к тотальной милитаризации промышленности. На имеющихся гражданских предприятиях достичь предусмотренных третьим пятилетним планом показателей производства оружия было уже невозможно. После начала Великой Отечественной войны это стало важным фактором быстрого наращивания военного производства и подготовило коренной перелом в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне в целом.
Поскольку в войну против гитлеровской Германии вступили сначала западные страны, в первую очередь Великобритания, именно здесь началась разработка экономических проблем Второй мировой войны. В 1940 г. вышла в свет брошюра известного английского экономиста Дж. М. Кейнса «Как оплатить войну», в которой автор подробно рассматривал вопросы финансирования и развития военной экономики, подчеркивал, что война способствует решению главной социальной проблемы века – расширению сферы потребления. Другой английский экономист Р. У. Кларк в книге «Экономическое напряжение войны» предпринял попытку показать особую роль государства в развитии военной экономики и определить предельные экономические возможности ведения войны. Он призывал к установлению неограниченной диктатуры правительства в экономической сфере, в частности, в осуществлении инвестиций, установлении цен и заработной платы, предоставлении кредита, экспорте продукции и т. д. Нельзя также не упомянуть изданный в 1948–1953 гг. фундаментальный шеститомный труд о Второй мировой войне участника и очевидца ее событий в качестве премьер-министра Великобритании, бывшего боевого офицера, занимавшего в течение многих лет различные министерские посты в правительствах Соединенного Королевства, в том числе Первого Лорда Адмиралтейства, руководившего ВМС страны, в качестве председателя «Комиссии по сухопутным кораблям» принимавшего участие в разработке первых танков и создании танковых войск, министра вооружений, военного министра и министра авиации, будущего лауреата Нобелевской премии по литературе 1953 г. У. С. Черчилля [6]. Хотя этот труд был написан в атмосфере «холодной войны», инициатором и одним из творцов которой был его автор, ни один серьезный исследователь военной истории и военной экономики не может его игнорировать.
Во время Второй мировой войны активизировались военноэкономические исследования и в США. В 1942 г. в Чикагском университете был издан сборник статей группы профессоров под названием «Экономические проблемы войны и ее последствия». В этой работе анализировались важнейшие уроки прошлых войн в целях наилучшего разрешения экономических проблем войны, ее финансирования и т. д. В последующие годы в США появилось немало других работ, в которых рассматривались различные экономические аспекты Второй мировой войны, в частности, вызвавшие большой интерес общественности и специалистов книги президента Американского социологического общества У. Ф. Огборна и известных экономистов, уже упоминавшегося Дж. М. Кларка и В. В. Леонтьева.
Крупным вкладом в военно-экономическую практику и теорию стало экономическое обеспечение победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне, обобщенное в книге руководившего переводом народного хозяйства на военные рельсы и эвакуацией производительных сил из прифронтовой полосы на Восток председателя Госплана СССР Н. А. Вознесенского [7]. Особенности перестройки экономической жизни, организации военного производства, государственного управления военно-экономической деятельностью и экономического обеспечения войны рассмотрены в работах и других советских авторов, в частности в многотомных изданиях по истории Великой Отечественной войны Советского Союза и Второй мировой войны, в воспоминаниях военачальников, в работах руководителей экономических ведомств и ученых.
Один из главных выводов из величественного, но в то же время и трагического опыта войны, недостаточно усвоенный победителями, сформулировал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков в предисловии к книге своего заместителя по тылу в годы Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Н. А. Антипенко: «Задача выиграть войну с наименьшими потерями личного состава и материальных средств – одна из важных основ подготовки командно-начальствующего состава. Между тем этой стороне вопроса при обучении, воспитании командных кадров не всегда уделялось должное внимание. В ходе войны были случаи, когда из-за плохого знания обстановки, недостаточной изученности огневой системы противника безрезультатно выпускались десятки тысяч тонн боеприпасов. А сколько было всевозможных и не всегда оправданных перегруппировок и передвижений войск во время войны! На все это расходовалось колоссальное количество горючего и другого дорогостоящего имущества, а главное – силы людей тратились без всякой пользы… Проблема экономного использования человеческих и материальных ресурсов в период войны была и всегда остается одной из самых ответственных» [8, с. 17]. В контексте приобретенного впоследствии советским народом нового трагического опыта эти слова приобрели более широкое и емкое звучание.
В 40-х гг. ХХ в. военная экономика значимых в политикоэкономическом отношении стран стала важным фактором и действенным средством изменения мира, но ей предстояло еще сыграть исключительную роль в истории. Вступление человечества в ядерную эпоху радикально изменило мир. Появление и развитие стратегических ядерных вооружений оказало огромное влияние на представления о возможном характере будущей войны и строительстве ВС, на развитие науки, техники, всех отраслей промышленности, экономики ведущих стран мира, а также на отношения между ними.
Обладание атомной бомбой усилило претензии наиболее агрессивно настроенной части правящей элиты США на «мировое лидерство» в условиях роста международного авторитета СССР как страны, внесшей определяющий вклад в победу над гитлеровской Германией, распространения сферы его влияния на освобожденные Красной Армией страны и народы. Политика стратегического сдерживания «советской экспансии», постоянная ядерная угроза со стороны США, «холодная война» обусловили беспрецедентную для мирного времени гонку вооружений.
Внешне закономерности послевоенного времени остались прежними. После окончания войны все воюющие страны провели реконверсию. В США общая численность ВС была сокращена с 11,5 млн в 1945 г. до 1,5 млн чел. в 1948 г., а военные расходы за этот период уменьшились с 81,2 млрд до 11,8 млрд долл. В СССР к началу 1948 г. было демобилизовано 8,5 млн человек [4, с. 302–303]. Но военная экономика двух супердержав не была свернута, она постепенно приобретала новое качество без зримого увеличения военных расходов. Известно, что многомиллиардные затраты на создание атомной бомбы и дальнейшее развитие ядерного оружия США финансировали по статье «Разработка естественных ресурсов», позднее – через бюджет министерства энергетики. В СССР создание ядерного и термоядерного оружия, средств его доставки и новых систем вооружения осуществлялось по бюджетам многих ведомств – обеспечивающих сырье и металл базовых отраслей, организующих разработку и производство вооружения и военной техники девяти машиностроительных и многих других министерств, многочисленных учреждений Академии наук и высшей школы.
В 1946–1948 гг. при соблюдении строжайшей, чрезвычайной и беспрецедентной секретности в СССР была создана атомная промышленность, разработаны месторождения урана. Закрытые научноисследовательские центры, лаборатории, конструкторские бюро, специальные строительные и производственные организации появились более чем в 100 городах страны, в том числе вновь созданных «атомградах». В районе г. Семипалатинска был построен испытательный полигон.
Фактически в послевоенные годы в США и СССР, во многих других странах, входящих в различные военно-политические блоки, прежде всего НАТО и Организацию Варшавского Договора, удовлетворение качественно новых военных потребностей обеспечивалось сформировавшейся и постоянно растущей специфической военно-хозяйственной системой, охватывающей производство, распределение, обмен и потребление предметов военного назначения. Но в советской военно-экономической теории и практике ее преподавания в высшей военной школе господствовали зафиксированные Н. А. Вознесенским представления о военной экономике как особом состоянии всей экономики страны, особом периоде ее развития в условиях войны, требующей предельной мобилизации имеющихся ресурсов [7, с. 10]. Стремление к пересмотру этого устоявшегося стереотипа проявилось в 1951–1953 гг. в ходе состоявшейся на страницах журнала «Военная мысль» дискуссии о теории военной экономики, однако эта задача не была решена. Дискуссия была грубо оборвана с выговором ее участникам. Формирование адекватной системы представлений о военной экономике как перманентной объективной реальности растянулось на несколько десятилетий. Вплоть до 70-х гг. в советской литературе встречались утверждения о том, что «в мирный период у нас нет, и не может быть военной экономики» [9, с. 24].
Более прагматичная, нацеленная на конкретный результат военноэкономическая наука США оперативно среагировала на запросы развертывающейся революции в военном деле. В центре внимания исследований оказались такие вопросы как система организации и руководства ВС и промышленными предприятиями, производящими оружие; оптимизация методов выбора систем вооружения, тылового обеспечения ВС, распределения средств между их отдельными видами, дислокации войск внутри страны и за границей. Если в доядерный период ХХ в. военно-экономическая теория была сосредоточена преимущественно на способах определения величины и структуры военно-экономического потенциала, проблемах его мобилизации, управления экономикой во время войны, послевоенной конверсии, то по мере увеличения военного бремени и усложнения задач обеспечения военной безопасности в условиях гонки вооружений в круг ее исследований стали все больше включаться вопросы собственно военно-экономической деятельности. Важнейшими ее задачами стали обоснование путей и методов превращения военно-экономического потенциала в реальную военно-экономическую и военную силу и повышение эффективности использования ресурсов, направляемых на военные цели. Это отнюдь не девальвировало значение и традиционных проблем обеспечения военной безопасности, они лишь приобретали новые грани. В частности, большой резонанс имели опубликованные во второй половине 50-х гг. работы К. Е. Кнорра, посвященные военным и военноэкономическим потенциалам государств в новых условиях [10].
С конца 50-х – начала 60-х гг. в США начали активно использовать математическое моделирование войн, гонки вооружений и ее последствий. В 1957 г. А. Рапопорт привлек внимание научного сообщества к математической теории войн уже ушедшего из жизни английского математика, физика, метеоролога, психолога и пацифиста Льюиса Ф. Ричадсона (1881–1953), впервые применившего математические методы прогнозирования погоды для изучения причин возникновения войн и создания возможностей для их предотвращения [11]. В 1960 г. были опубликованы основные работы Ричардсона, излагающие его теорию, – «Оружие и отсутствие безопасности» (1949) и «Статистика смертельной вражды (непримиримых распрей)» (1950). Модель известного в области математической метеорологии, но совершенно неизвестного в области политической науки ученого стала основой новой области знаний – математической теории международных отношений. Методология и практически направленный инструментарий Ричардсона выдержали проверку временем, развиваются в течение многих лет. В 70-е гг. в результате обособленного и совместного изучение проблем национальной и глобальной безопасности и гонки вооружений Д. Л. Брито и М. Д. Интреллигейтор создали стратегическую основу для разработанных Ричардсоном уравнений гонки вооружений.
«Революция в военном менеджменте» возглавившего в 1961 г. в составе администрации Дж. Ф. Кеннеди Пентагон бывшего президента «Ford Motors Corporation» Р. Макнамары, направленная на совершенствование системы военного финансирования и повышение эффективности военных расходов, привлекла внимание к вопросам взаимодействия государства и военного бизнеса. В опубликованных в 1962 и 1964 гг. книгах М. Дж. Пека и Ф. М. Шерера «Процесс приобретения вооружений. Экономический анализ» и Ф. М. Шерера «Процесс приобретения вооружений: экономические стимулы» анализировались нерыночные аспекты приобретения вооружений, методы стимулирования конкуренции за получение военных контрактов и повышения ответственности военных производителей, конкурентные и контрактные стимулы в программах приобретения вооружений, включая теоретический и эмпирический анализ различных типов контрактов. Эти и другие связанные с ними вопросы рассматривались также в более широком контексте в ставшей классической книге исследователей «REND Corporation» Ч. Дж. Хитча и Р. Н. Маккина «Военная экономика в ядерный век». Способам выработки и реализации наиболее эффективной политики в области военного строительства была посвящена и изданная несколькими годами позднее книга Ч. Дж. Хитча «Руководство обороной. Основы принятия решений». Перечисленные вопросы остаются в центре внимания военно-экономической науки США вплоть до наших дней.
В 60-х гг. большое внимание экономистов, политиков и общественности США привлекли вопросы функционирования, роли и критики ВПК страны. В 70-х гг. увеличился поток публикаций о советских военных расходах, военно-экономическом потенциале и ВПК Советского Союза. В связи с подготовкой к переходу на наемный принцип комплектования ВС были проведены крупные исследования проблем использования людских ресурсов в военных целях.
В 1973 г. книгой Е. Бенуа «Военные расходы и экономический рост в развивающихся странах» была начата продолжающаяся уже более сорока лет и остающаяся незавершенной дискуссия о влиянии военных расходов на экономический рост в различных странах и социально-экономических системах. Со второй половины, особенно с конца 70-х гг., возросло внимание к анализу состояния военно-промышленной базы. Активно исследовались оборонные отрасли промышленности с точки зрения прибыльности, практики закупок, влияния конверсионных процессов, конкуренции, промышленной политики и т. д.
Впечатляющая широта и высокая интенсивность исследований во многом объясняются тем, что в США проблемы безопасности, теории государственной и военной стратегии, экономического обеспечения военного строительства развивали не генералы и военные специалисты силовых структур, а в основном гражданские специалисты, в том числе ученые-естественники и ученые-гуманитарии. Исследования военного и военно-экономического характера осуществляют сотни различных организаций: государственные органы, частные корпорации, профессиональные ассоциации, университеты, научно-исследовательские центры, занимающиеся исследованиями в самых различных областях социально-гуманитарных, естественных, технических наук. Трудами таких теоретиков, как Б. Броди, Дж. Кеннан, Г. Киссинджер, Г. Кистяковский, Р. Шеллинг, многих других, родилась теория, в соответствии с которой качественно новые виды вооружения – в первую очередь ракетно-ядерное оружие – это не просто более разрушительные средства войны, способные уничтожить весь мир, не оставив победителей, а новые инструменты большой политики. Усилиями названных и многих других ученых был сделан эпохальный вывод: новые, беспрецедентные по разрушительной силе виды вооружений надо использовать не для того, чтобы победить противника в войне, а для того, чтобы не допустить этой войны, точнее – не допустить таких действий предполагаемого противника, которые могут привести к войне.
В СССР к такому выводу пришли значительно позже, потому что здесь ни ученые-гуманитарии, ни ученые-естественники, ни военные и гражданские специалисты закрытых ведомств просто не могли свободно обсуждать подобные темы. Как уже отмечали известные специалисты [4, c. 82], административно-командные методы управления экономикой, сверхсекретность, отсутствие статистической информации о военной деятельности государства, чрезмерная идеологизация общественных наук, вынужденных восхвалять принятые КПСС решения, и другие причины объективно тормозили военно-экономические исследования, придавали им схоластический характер, препятствовали осмыслению новых явлений, связанных с появлением ракетно-ядерного оружия, «холодной войной» между двумя мировыми системами. Советская военно-экономическая наука значительно запаздывала в теоретическом обобщении новых процессов в развитии военной экономики ядерного века, кардинальных изменений в требованиях к экономическому обеспечению военного строительства, к укреплению военно-экономической и оборонной безопасности страны.
Тем не менее, обострение конфронтации двух систем в условиях постоянных революций в военном деле, связанных с появлением и развитием ракетно-ядерного оружия, и необходимость обеспечения военной безопасности вынуждали отказываться от старых представлений. В 60-х – 80-х гг. в результате непростых дискуссий в среде экономистов высшей военной школы, в которых «немаловажное значение… имела переводная военно-экономическая литература» [2], в советской науке была разработана новая трактовка военной экономики. Она была отражена в ряде монографий, в том числе имеющих ограничительные грифы и поэтому сосредоточенных в закрытых ведомственных библиотеках, многочисленных учебных пособиях военных вузов, справочных изданиях. Учебник военной экономики для военных академий и университетов, который впервые не имел ограничительного грифа и был официально утвержден в этом качестве, был издан только в 1999 г. [12].
В новой трактовке военная экономика рассматривалась не как состояние всей экономики в условиях войны и не просто как сумма отраслей народного хозяйства, производящих военную продукцию, а как совокупность экономических отношений, связанных с производством, распределением, обменом и потреблением продукции военного назначения, складывающихся в народном хозяйстве в целом, в обеспечивающем ВС секторе экономики, непосредственно в ВС.
Научно значимые военно-экономические исследования заметно активизировались в 80-х гг. Расширилась их тематика. Увеличилось количество книг, статей, диссертационных работ по этой проблематике. Начал расти вклад в науку гражданских ученых. Еще в 60-е гг. в некоторых академических институтах, в частности ИМЭМО, ИСКРАН были созданы отделы военно-стратегических исследований. Первоначально они комплектовались бывшими высокопоставленными военными и ветеранами разведки, но постепенно в них формировался и корпус гражданских экспертов по проблемам обороны и безопасности. Однако в целом развитие советской военно-экономической науки продолжало отставать от потребностей практики. В то время, как военно-экономические исследования в США и других западных странах решали главным образом практические вопросы повышения эффективности военной экономики, в СССР усилия ученых направлялись на формирование социалистической военной экономики как науки, разработку системы ее категорий и законов, создание учебников по предмету и рассмотрение вопросов, имеющих познавательное значение, но далеких от практики военно-экономической деятельности государства и функционирования военного хозяйства.
После распада СССР в связи с резким сокращением военных расходов и начавшейся демилитаризацией экономики на первый план выдвинулись проблемы конверсии. За несколько лет было опубликовано множество статей, книг, защищены десятки кандидатских и докторских диссертаций. Но это не смогло предотвратить провал недостаточно продуманных и недофинансированных конверсионных планов. Постепенно внимание военно-экономической теории и практики постсоветских стран начало переключаться на проблемы реформирования распавшегося на множество неодинаковых частей когда-то единого военного производства и целостных военно-экономических отношений, на поиски новых форм взаимодействия. Все большего внимания требовали вопросы планирования и финансирования военных потребностей, осуществляемых военных реформ и т. д.
В последние двадцать лет военно-экономическая наука России и некоторых других стран постсоветского пространства вышла на качественно новый уровень понимания и анализа современных проблем экономического обеспечения военной, национальной, региональной и глобальной безопасности. Об этом свидетельствует анализ основных концептуальных стратегических документов ведущих в военно-политическом отношении стран, отражающих новые глобальные закономерности. В современных условиях обеспечивающая военную безопасность экономика военной сферы выступает как важная, но не единственная составная часть экономики национальной безопасности. Распределение ресурсов на обеспечение национальной безопасности, осуществляется сейчас на основе иных, по сравнению с прошлым, приоритетов.
Показательна также и тематика, новая направленность отраженных в публикациях исследований. В центр внимания постсоветской военноэкономической науки переместились вопросы обоснования военного бюджета, оптимизации оборонных расходов и их влияния на экономический рост, эффективности военного строительства, военно-экономического анализа и математического моделирования военно-экономических процессов, качества нормативной базы военно-экономической деятельности.
Специфичными и проблемными для всех постсоветских стран являются вопросы, связанные с вхождением военной сферы в систему рыночных отношений, структуры военной экономики суверенных государств, международных военно-экономических отношений.
Существует настоятельная необходимость дальнейшего развития военно-экономической науки, которое и в современных условиях сдерживается, по мнению ведущих специалистов, объективными и субъективными трудностями [13, с. 57].
Вполне понятна забота военных специалистов о непосредственно практической оборонной направленности военно-экономической науки. Вместе с тем необходимо иметь в виду то, что последняя является также основой и одной из составных частей идеологии обеспечения военной, при более широком подходе - национальной безопасности, которой должны владеть все граждане страны. В ее развитии и внедрении в общественное сознание должны участвовать и преподаватели высшей школы. С этой точки зрения большое значение приобретает издание в открытой печати доступной для использования в системе профессиональной подготовки и общего высшего образования учебной литературы по предмету, а также включение в учебные планы образовательных учреждений дисциплин по проблемам национальной безопасности. В лучших высших учебных заведениях России это уже сделано.
Список литературы Военная экономика и военно-экономическая мысль в системе социально-гуманитарных знаний: возникновение, развитие, современные проблемы
- Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения/И. Т Посошков. Ред. и коммент. Б. Б. Кафенгауза. -М.: Изд-во АН СССР, 1951.
- Пожаров А. И. Военная экономика России: история и теория. Моногр./А. И. Пожаров. -М.: ВФЭУ, 2005.
- Маркс -Энгельсу в Манчестер, 7 июля 1866 г.//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 31. -М.: Политиздат, 1963.
- Фарамазян Р. А. Трансформация военной экономики: XX -начало XXI века/Р. А. Фарамазян, В. В. Борисов. -М.: Наука, 2006.
- Макшеев Ф. А. Военное хозяйство: Курс интендантской академии/Ф. А. Макшеев. В 3 ч. -СПб., 1912-1915.
- Черчилль У. С. Вторая мировая война/У. С. Черчилль; в 3-х кн.; сокр. пер. с англ.; с предисл. Д. А. Волкогонова; под ред. А. С. Орлова. -М.: Воениздат, 1991.
- Вознесенский Н. А. Военная экономика в период Отечественной войны/Н. А. Вознесенский. -М.: Госполитиздат, 1948. -192 с.
- Антипенко Н. А. На главном направлении (Воспоминания заместителя командующего фронтом)/Н. А. Антипенко; предисл. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. -М.: Наука, 1967.
- Тамарченко М. Л. Советские финансы в период Великой Отечественной войны/М. Л. Тамарченко. -М.: Финансы, 1967.
- Knorr K. E. The War Potential of Nations/K. E. Knorr. -Princeton, NJ: Princeton Univers. Press, 1956.
- Rapoport A. Lewis Fry Richardson's mathematical theory of war/A. Rapoport//Journal of Conflict Resolution. -1957. -No. 1 (March).
- Военная экономика. Теория и актуальные проблемы: учебник для военных академий и университетов/под ред. докт. экон. наук, проф. А. И. Пожарова. -М.: Воениздат, 1999.
- Викулов С. Ф. Военная экономика России: научная дисциплина и отрасль производства/С. Викулов, Е. Хрусталев//Мировая экономика и междунар. отношения. -2009. -№ 7.