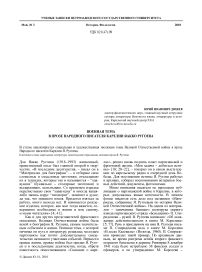Военная тема в прозе народного писателя Карелии Яакко Ругоева
Автор: Дюжев Юрий Иванович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История. Филология
Статья в выпуске: 3 (108), 2010 года.
Бесплатный доступ
Карельская литература, писательские персоналии, военная проза я. ругоева
Короткий адрес: https://sciup.org/14749703
IDR: 14749703
Текст статьи Военная тема в прозе народного писателя Карелии Яакко Ругоева
Для Яакко Ругоева (1918–1993) жизненный, нравственный опыт был главной опорой в творчестве. «В последние десятилетия, – писал он в “Материалах для биографии”, – я отбираю свои словесные и смысловые заготовки, откладываю их в тетрадях, которые так и называются – “хаа-вуксиа” (буквально – столярные заготовки) и выдерживаю, испытываю. Со временем изредка перелистываю свои “хаавуксиа” и иногда какая-либо запись вдруг “заговорит”, зазвенит в душе, да так, что никакого покоя. Придется взяться за работу, иного выхода нет. И начинается рождение изделия, которое, как мне тогда кажется, совершенно необходимо в жизни и мне самому, и моим читателям» [4; 41].
Как и для других представителей фронтового поколения, Великая Отечественная война была вехой в биографии Я. Ругоева, самым значительным событием в жизни. Военная тема, с которой начинал он путь в литературу, решалась молодым партизаном как почти документальное свидетельство активного участника событий. Верности правде жизни, правде войны был предан Я. Руго-ев и в последующие десятилетия, когда, обретя известность повествованием «Сказание о каре- лах», решил вновь поднять пласт партизанской и фронтовой жизни. «Моя задача – добиться истины» [18; 20–22], – говорил он в своем выступлении по карельскому радио в очередной день Победы. Для постижения истины Я. Ругоев работал в архивах, собирал воспоминания ветеранов боевых действий, документы, фотоснимки.
Мимо внимания писателя не проходили публикации о партизанской войне в Карелии, в которых допускались явные неточности. В личном фонде писателя есть дело под заглавием «Материалы, собранные Я. Ругоевым по истории Великой Отечественной войны». На одном из материалов – замечаниях бывшего политрука первого взвода партизанского отряда «Большевик» П. Спиридонова – рукой Я. Ругоева написано: «Об искажении действительности в книге М. Королева» [5; 77]. Речь в присланном на имя Я. Ругоева письме П. Спиридонова шла о книге М. Королева «В лесах Калевалы» (Вологда, 1960). П. Спиридонов приводил такой пример. По архивным данным, во время разгрома штаба второго финского егерского батальона в деревне Риноярви 8 декабря 1941 года было истреблено 38 финских солдат и офицеров, а по утверждению М. Королева –
67 солдат. «Тут, как говорится, комментарии излишни», – замечал П. Спиридонов, с чем Я. Ругоев не мог не согласиться.
Не выдержали проверку опытом фронтовиков и ряд материалов из книги воспоминаний о Великой Отечественной войне «Незабываемое» (Петрозаводск, 1967). В письме Я. Ругоеву от 22 августа 1967 года участник событий на Карельском фронте В. Валли указывал на фактические неточности в воспоминаниях К. Воронцова, В. Шарова, З. Алексеева и особенно – в партизанских записках Д. С. Александрова: «На страницах 179–184 ведет свою летопись Александров Д. С. То, что пишет Александров, пожалуй, является рекордом фантазии. Это даже на один процент не похоже на правду. Так вот, в книге написано, что партизанский отряд численностью менее чем 50 человек задержал более чем на двое суток два батальона противника. А знает ли Александров, из чего состоит батальон? Батальон состоит из трех стрелковых рот, пулеметной роты, минометной роты, взвода саперов, взвода связи, хозяйственного взвода и взвода 45миллиметровых орудий – людей примерно 700– 800 человек. Ни один уважающий себя командир батальона перед отрядом противника около 50 человек, вооруженных винтовками и двумя-тремя ручными пулеметами, не развернет своего батальона, а просто вызовет одного из командиров роты и прикажет с приданным взводом пулеметной роты уничтожить группу противника. Рота начинает выступление под прикрытием огня станковых пулеметов, и через 30 минут все покончено. А по описаниям Александрова отряд воевал более чем двое суток против двух батальонов противника??? Какая богатая фантазия у Александрова! Хорошо, что ты, Яков Васильевич, не принимал участия в этой книге» [7; 57].
После каждого своего выступления в печати и по радио с материалами о военных действиях в Карелии Я. Ругоев получал письма от ветеранов. От них он узнавал все новые и новые фамилии и адреса. По его просьбе ветераны писали свои воспоминания, при личных встречах делились с писателем рассказами о пережитом. На имя Я. Ругоева приходили документальные материалы о минувшей войне из соседней Финляндии. Так, Эркки Халме прислал 76 документов, в том числе 44 фотографии [15].
Мысль написать «военный» роман созрела у Я. Ругоева в 1958 году (в письме в Госиздат КАССР он высказывал намерение в 1962 году представить рукопись романа на финском языке «о днях Великой Отечественной войны в Карелии»). Одной из побудительных причин была возникшая в условиях общественной «оттепели» второй половины 1950-х годов потребность в новых идеях в осмыслении событий 1941–1945 годов. Опыт писателей фронтового поколения реализовался в повестях Ю. Бондарева «Батальоны просят огня» (1957), Г. Бакланова «Девять дней» («Южнее главного удара») (1958) и дру- гих книгах, которые вслед за рассказом М. Шолохова «Судьба человека» (1957) показали солдата «лица выраженье», раскрыли осмысленную и одухотворенную идеей правду о войне.
В то время как в многонациональной советской литературе тема Великой Отечественной войны выходила на первый план, в финноязычной прозе Карелии послевоенных лет, помимо очерков и рассказов, она нашла отражение лишь в повестях Я. Ругоева «Sotapakolaisia» («Эвакуированные», 1946), Н. Яккола «Iira» («Ира», 1947), А. Тимонена «Karjalasta Karpaateilie» («От Карелии до Карпат», 1948). Поэтому решение Я. Ругоева написать на финском языке роман о Великой Отечественной войне было шагом смелым, но и продуманным. Еще 12 февраля 1943 года на страницах дневника Я. Ругоев высказал свою заветную мечту – «взяться за более серьезную работу – за трилогию – о молодом человеке нашего времени» [3; 56]. Претворять замысел в жизнь Я. Ругоев начал в 1960-е годы. Первоначально он дал повествованию название «San-maan asialla» («По велению Отечества»), затем изменил название на «Laista nuoruutta» («Таежная юность»). Машинописная рукопись первой части повествования (40 страниц) датирована 1964 годом и называется «Kyyrolan Vasselei» («Василий Кириллов») [19]. На первом листе рукописи Я. Ругоев поместил в качестве эпиграфа высказывание Е. Дороша из опубликованной журналом «Советский экран» (1963, № 21) статьи «Они возвращены народу»: «Оклеветать честного человека – тягчайшее из преступлений. Совершивший его виноват перед теми, кого он оклеветал и уничтожил. Но быть может, еще тяжелее вина его перед оставшимися в живых».
Не дожидаясь завершения работы над всем романом «Таежная юность»1, Я. Ругоев начал публикацию первой его части в виде документальной повести о безвинно репрессированном герое войны Василие Кириллове. Под названием «Isanmaan asialla» («По велению Отечества») повесть с продолжением публиковалась в газете «Неувосто-Карьяла» с 22 июля по 18 сентября 1964 года и в переводе на русский язык Т. Сумманена была напечатана в журнале «Север» (1964, № 6) под заголовком «Двести пятьдесят шесть дней». В послесловии к повести, посланной в 1966 году в издательство «Современник» на предмет ее публикации, Я. Ругоев писал: «Мне удалось многое узнать от жителей Вокна-волока. Сейчас я работаю над романом, в основу которого легли эти события. Считаю своим долгом рассказать уже теперь правду о Василие Кириллове хотя бы в сжатом очерке, посвященном последнему заданию мужественного карельского разведчика. Заканчивая повествование, я хотел бы выразить пожелание, чтобы товарищи, которым доведется читать эти строки и которые знали Василия Кириллова, прислали мне свои воспоминания о нем. Они принесут большую пользу при работе над книгой» [11; 3].
Таким образом, Я. Ругоев рассматривал «Двести пятьдесят шесть дней» как материал для повести или романа. В октябре 1966 года, по сообщению и. о. председателя правления СП КАССР Н. Г. Гиппиева [22; 24], в Союзе писателей и в редакции журнала «Пуналиппу» уже находилась на чтении рукопись документальной повести «Карельская таежная юность» (250 страниц), которую автор назвал «первой книгой о разведчике В. Кириллове» (имея в виду, что за первой последуют другие). Я. Ругоев сделал попытку включить рукопись в план издательства на 1970–1971 годы, но получил отказ. Позднее, в «Материалах для автобиографии», Я. Ругоев назвал так и не опубликованную при советской власти рукопись романа «Таежная юность Карелии» в числе «нескольких крупных рукописей, написанных в 1960–70-е годы, но не “вписавшихся” в издательскую политику тех лет» [4; 77]. Долгую жизнь обрела лишь документальная повесть «Двести пятьдесят шесть дней», которая в переводе Т. Сумманена вошла в том числе и в «Избранное» (Л., 1978) Я. Ругоева.
Действие повести развертывается в карельском селе Вокнаволок в 1942 году. В то время село было захвачено оккупантами, в нем находился сильный вражеский гарнизон. Через эту деревню проходили коммуникации на Костомукшу, Кенто-зеро и Войницу. По водным путям можно было добраться до Ювалакши, Энонсуу и Алоозера. Оттуда же вела автомобильная дорога к границе, которая пролегала в тридцати километрах от деревни. В Вокнаволоке находился штаб противника, которому были подчинены расположенные в пограничных деревнях финские гарнизоны, имевшие телефонную и радиосвязь со штабом. По всем этим причинам охрана села была организована тщательно и продуманно. В летнее время на озерах находились в засаде многочисленные группы охранения. Зимой село опоясывали две контрольные лыжни, за которыми велось непрерывное наблюдение. Войти незаметно и уйти из села было очень трудно.
Отважному разведчику Василию Кириллову, посланному в сентябре 1942 года на задание в Вокнаволок, пришлось пройти пешком сотню километров по лесам, переправиться через реки и озера, миновать минные поля, провести много ночей под открытым небом, прежде чем тайно проникнуть в родное село. Разведчика укрыла у себя Агафья Филипповна Мякеля. Ночью Василий спал в избе, а днем находился в погребе, где была установлена рация. Агафья Филипповна, по просьбе разведчика, внимательно следила за действиями финского гарнизона и передавала сведения Василию. Тот сообщал по рации, в каких домах в Вокнаволоке размещены войска, где расположен штаб противника, какова система обороны вокруг села. Через Агафью Филипповну разведчик подыскивал новых людей, которые могли бы добыть ему нужные сведения. Надежными помощниками разведчика стали комсо- молки Ольга Лесонен и Анна Маликина, которые работали судомойками в столовой вражеского штаба. Летом 1943 года враги напали на их следы. Ольга Лесонен и Анна Маликина были брошены в концлагерь. На родину они вернулись только после заключения перемирия. Василию Кириллову удалось выйти из вражеского тыла благополучно, но впоследствии его судьба сложилась трагично. Он был незаслуженно обвинен в измене и умер в местах заключения. Позднее дело В. Кириллова было пересмотрено, и его доброе имя восстановлено. Весной 1965 года, уже после публикации документальной повести Я. Ругоева, А. Мякеля, А. Маликина и О. Лесонен были награждены грамотами Президиума Верховного Совета КАССР, а в республиканской газете «Ленинская правда» (1965, 30 марта) появилась безымянная заметка «Патриоты из Вокнаволока».
О подвиге В. Кириллова и его земляков было хорошо известно другому карельскому писателю Ортье Степанову. 5 декабря 1960 года он направил письмо секретарю обкома КПСС И. И. Сенькину, где сообщал, что арестованный органами госбезопасности 14 октября 1943 года и осужденный 12 февраля 1944 года В. Кириллов посмертно реабилитирован 24 октября 1960 года военным трибуналом Ленинградского военного округа. О. Степанов просил оказать содействие в ознакомлении с архивными документами и выражал желание «написать книгу о Кириллове В. А. как о верном сыне советского народа». Через некоторое время О. Степанова вызвал к себе секретарь Калевальского райкома партии Д. С. Александров и сообщил: «Из обкома партии позвонили и велели Вам передать: “Лучше будет, если Степанов займется одним живым, чем сотней мертвых”». «Это было убийством моих замыслов», – писал в дневнике О. Степанов [1].
Получить доступ к личному делу В. Кириллова удалось лишь Я. Ругоеву – так появилась документальная повесть «256 paivaa» («Двести пятьдесят шесть дней»). Вместо вступления к ней Я. Ругоев публикует текст наградного листа от 13 апреля 1942 года, где В. Кириллов представлялся к правительственной награде – ордену Красного Знамени – и кратко излагались боевые заслуги партизана, который за 87-дневное пребывание в тылу врага прошел свыше 1200 километров, выполняя ответственные поручения командования. Публикацией документа Я. Ругоев задавал тон повествованию, обещая донести правду о человеке на войне во всей сложности и противоречивости, тем более что он лично знал героя повествования и сам имел за плечами богатый опыт партизанских походов в тыл врага. «Каким бы изощренным ни было наше писательское воображение и его способность домысливать, – писал В. Быков, – в основе реалистического творчества всегда будет опыт, жизнь, знаменательные события эпохи, а еще лучше – участниками которых мы являлись» [22].
В развернувшейся на страницах печати полемике о разных достоинствах героев романтического и реалистического склада (молодогвардейцев А. Фадеева и пехотинцев А. Бека) писатель-фронтовик Я. Ругоев занимал сторону тех, кто был творчески готов к раскрытию драматизма «окопной» жизни. Мимо его внимания не прошли «партизанские» главы опубликованного в 1963 году романа Д. Гусарова «Цена человеку». В них повествовалось о том, как семнадцатилетний минер партизанского отряда Виктор Курганов (мечтавший о войне как череде подвигов) учится выдерживать тяготы дальнего похода с трехпудовым мешком за плечами, с опухшим от комариных укусов лицом, с натертыми до крови ногами, обретая понимание, что война – это изнурительный, тяжкий ратный труд. Я. Ругоев разделял позицию Д. Гусарова о необходимости уважительного отношения художника к фактам, документам истории войны и отторгал произведения, где пренебрежение реализмом вызывало недоверие читателя.
Герой повести Я. Ругоева Василий Кириллов формируется из автобиографических моментов так же, как герой романа Д. Гусарова Виктор Курганов вырастает из автобиографии писателя, чья юность совпала с началом войны и прошла в партизанском отряде. Оба автора исходят из собственного опыта, оперируют знаниями определенной общественной среды.
Именно крестьяне были в центре внимания Я. Ругоева на протяжении всей его писательской деятельности, поскольку на примере крестьянина нагляднее всего можно было показать процессы, происходящие во всем обществе. Культура и сознание Я. Ругоева, как и его земляка и ровесника В. Кириллова, формировались в замкнутом мире деревни, но постепенно оба они приобщались к национальной истории и культуре. Как показывают дневники Я. Ругоева, это был процесс духовного созревания человека, переход от почти детского восприятия мира к сознательному и критическому отношению к нему, к умению выбрать определенную позицию в жизни, найти в ней свое место, разделить трагедию своего народа, активно участвовать в историческом процессе. Для вступившего в пору писательской зрелости Я. Ругоева важно было показать в повести становление национального самосознания крестьянских масс, приобщение к культуре и новой жизни. И в этом отношении фигура выходца из крестьянской семьи В. Кириллова, получившего при советской власти образование, ставшего учителем, а с июля 1941 года – бойцом Красной армии, идеально подходила для раскрытия через образ героя центральной проблемы общественной жизни – формирование новой человеческой личности.
Но в этом случае главной чертой индивидуальности героя должно быть драматическое формирование своей судьбы в потоке межчеловеческих отношений. Таков был первоначальный замысел романа «Таежная юность Каре- лии», так и не увидевшего свет. Что же касается повести «Двести пятьдесят шесть дней», то в ней, выдвигая на первый план образ Кириллова, автор равномерно распределяет внимание между остальными героями и их судьбами. Создавая их, писатель избегает подробных описаний и выразительными драматическими эпизодами отмечает главные звенья происходящего.
«Повесть, как и все произведения Я. Ругоева, немногословна, сдержанна по тону повествования, – отмечала в своем отзыве редактор издательства “Современник” Т. Мирзоян. – История разведчика описывается не как цепь увлекательных приключений, а как будничная, требующая огромной силы воли, смекалки, напряжения, работа. Также естественно и просто говорится о крестьянке Окафии, учительнице Ольге, Анни, о двух подростках – о тех людях, которые, рискуя жизнью, помогали советскому разведчику в борьбе с фашистскими оккупантами» [12; 4].
Василий Кириллов предстает перед читателем живым человеком, личностью с вполне конкретными чертами характера. В свои 22 года он обладает большим жизненным опытом, стойкостью духа, упорством в достижении цели, готовностью отдать жизнь ради победы над фашизмом. Рисуемый художником образ Василия отличается документальной скупостью, но сквозь эту скупость вырисовывается лицо человека в подлинном смысле этого слова. Принимая на себя ответственность за успех операции, Василий отдает себе отчет во всех опасностях, осознает предстоящие трудности борьбы. Таким опытным бойцом, готовым к любой неожиданности, Василий предстает на первых страницах повести, рисующих его продвижение по занятой врагом территории к родной деревне. В переживаниях разведчика присутствует опыт личности создателя этого образа, авторское «я». Я. Ругоев отлично помнит, как сложно было в партизанских рейдах переплывать реки и озера, выбирать ночью верную дорогу к цели, и эти ощущения передает герою, своему ровеснику, в комментариях, где мысли Кириллова сливаются с воспоминаниями автора: «Осенней ночью по лесу идешь – будто глаза завязаны»; «Страшно хочется спать»; «Одна мысль – только бы не заснуть» [32; 431]2. После описания проникновения разведчика в захваченную врагом деревню главной нитью повести становится восстановление истины по рассказам знавших его людей, сохранившимся документам, заметкам и еще по тому, что осталось в памяти самого автора, бывавшего до войны в Вокнаволоке и дружившего со многими его жителями.
Тематическое поле, связанное с почти девятимесячной подпольной работой разведчика В. Кириллова, открыло перед Я. Ругоевым новые возможности в изображении локализованных во времени и пространстве реалий, различных ситуаций опасности, страха, солидарности, ответственности. Будучи ситуациями пограничными, они позволяли всесторонне доказать мысль, что война и оккупация стали ключевым опытом для карельского народа, что вопреки тягчайшим испытаниям в народе не была утрачена цельность нравственной сферы.
В силу условий боевого задания вынужденный прятаться в подполье деревенской избы, Василий оказывается притягательным центром общения самой активной части крестьянского сообщества – тех людей, которые готовы к активным действиям против захватчиков. Колхозница Окафия не только укрывает разведчика, но и вместе с Марией Рото-нен и семьей Липкиных собирает необходимые сведения. Подростки Алекси Кириллов и Алекси Липкин помогают Василию раздобыть батареи для рации, организуют тайный склад оружия, крадут карту из штаба роты противника. Комсомолки Ольга Лесонен и Анни Маликина сообщают Василию даты отправления в советский тыл разведывательно-диверсионных групп, с риском для жизни достают схему заминированных берегов рек и озер, снабжают продуктами русских военнопленных. Конфликтный узел повести завязан на противостоянии сил оккупантов и народного сопротивления. В смене ситуаций глаз художника внимателен к вещественной, предметной стороне событий, к фактическим подробностям подпольной работы. Так, в эпизоде появления возле избы трех финских солдат прозаику удается сжато раскрыть постоянное ощущение опасности в душе разведчика («Василий бросился в укрытие, приготовил связку гранат. Неужели засекли? Тогда конец всем – связка гранат разнесет пол-избы»). Прозаик пробует своих героев на оселке исторического выбора, в сложном переплетении обстоятельств. Он неторопливо, с большим количеством обыденных подробностей рассказывает о том, как в сознании жителей Вокнаволока зарождается мысль о необходимости сопротивления, желание помочь Василию Кириллову. Это свойственное Я. Ругоеву умение показать сам процесс пробуждения, рождения, формирования героических качеств придает повести «Двести пятьдесят шесть дней» определенную романтическую возвышенность, идущую от абсолютной чистоты помыслов и чувств положительных героев, выдерживающих все испытания.
«Мне нравится прежде всего объективность изложения Вами в своих произведениях жизни Карелии, – писал Я. Ругоеву один из его читателей Суло Кириллов. – Нравятся герои, думающие не о своем личном благе и о карьере, а об интересах дела, которому служат, о честности и справедливости. Тема войны Вас волнует до сих пор. Она близка Вам как участнику войны и хорошо изображена в Ваших рассказах. У нынешнего молодого поколения и у будущих поколений представление о Карелии 1920–30-х годов, о Карелии военных и первых послевоенных лет будет складываться под впечатлением от Ваших стихов, повестей и рассказов. Я обращаюсь к Вам не только как один из рядовых Ваших читателей, но и как представитель рода Кирилловых, того самого карельского рода, представителем которого был герой Вашей повести “Двести пятьдесят шесть дней” Василий Агеевич Кириллов. И я выражаю Вам от имени всех оставшихся в живых представителей нашего рода искреннюю благодарность за то, что Вы восстановили доброе имя моего дяди Василия. Вы не забыли его ни в 1944 году, ни в последующем» [16; 1].
Документальная повесть «Двести пятьдесят шесть дней», задуманная как подготовка к роману, оказалась не «предлитературой», а просто «другой» литературой с собственными методами передачи правды, связанными с переживаниями военного поколения в соотнесении с нравственными позициями человека послевоенной эпохи.
«Литература любого народа должна отражать исторический опыт этого народа, – писал Я. Ругоев критику В. Шошину. – Исторический опыт карелов, финнов, вепсов во многом отличается от опыта народов Коми, Мари, Удмуртии, Мордовии: это и расположение их мест обитания, и характер исторических событий и потрясений, перекатывавшихся через их земли. И природа. И вследствие всего этого – и национальные черты, привычки, характер, традиции. Этим я не хочу отрицать наших общих судеб и вытекающих из них обстоятельств. Но считаю, что при сопоставлении этих литератур нельзя не учесть вышесказанное. Взять хотя бы годы Великой Отечественной войны. Приволжские республики были в глубине страны. А Карелия сразу подверглась удару вражеских войск (так было всегда). Отсюда и свои особенности в судьбах людей, свои причины и разновидности то ли ухода людей из родных краев, то ли их возвращения на отцовские земли. И это отражается так или иначе в литературе. Я как уроженец Карелии не могу не думать об этом. Ведь значительная часть деревень Карелии сгорела дотла в годы войны, людям пришлось начинать жизнь снова на голом месте (и тоже не в первый раз). А это опять же порождает свои последствия и проблемы. Карелы удивительно стойко сохранили свои народные традиции в самые суровые годины своих испытаний» [17; 5–11].
Все созданное Я. Ругоевым в прозе о Великой Отечественной войне исключительно прочными узами связано с историческими судьбами карельской нации. Подлинный патриотизм писателя определялся историей родной ему Карелии, историей борьбы за социальные преобразования, против угнетения и общественной несправедливости, за свободу. В 1941 году молодой поэт стал солдатом, поскольку ратный подвиг для него был важнее слова. Когда после войны Я. Ругоев посвятил свою жизнь литературе, для него по-прежнему не было ничего более важного и близкого, чем родина; идеалом писателя оставался человек смелый, гордый, духовно выпрямленный, обладающий чувством достоинства, благородством стремлений. Таких людей он повстречал в партизанском отряде – и спустя четверть века опубликовал художественно-документальный очерк «Двенадца- тый поход». Это опубликованное журналом «Север» (1965, № 5, перевел на русский Т. Сумманен) произведение имело подзаголовок «Страницы из партизанского дневника», и в конце стояла дата – 1942 год.
Речь в очерке шла о походе отряда «Красный партизан» в июне 1942 года, когда у реки Юрик-ка Я. Ругоев был ранен. Позднее за храбрость в бою Я. Ругоев был награжден орденом Красной Звезды, а 15 сентября 1942 года написал рассказ «Слабость врача Л. и упорство партизана Н.». В том походе Я. Ругоев не вел записей в силу сложной военной обстановки. Когда же его ранили в руку, тут уж тем более было не до дневника. Поэтому подзаголовок очерка «Страницы из партизанского дневника» следует рассматривать как обычный прием, присущий мемуарной литературе.
Нет сомнений, что текст «Двенадцатого похода» был создан не в 1942 году, а двумя десятилетиями позже. Но это не умаляет достоинств художественно-документального очерка, поскольку при известных обстоятельствах для читательского восприятия «впечатление документальности важнее ее подлинности» [25; 245]. Ведь читатель готов воспринять и в документальном произведении элементы вымысла, если они помогают исследовать действительные, имевшие место, жизненные связи, создать яркие характеры. К. Симонов отмечал, что для него как военного писателя в воспоминаниях бывалых людей главную ценность представляет истинность чувств и поступков. Мемуары, «в которых человек говорит о том, что он сам видел, и о том деле, которое он сам делал» [36; 107], подкрепляли писателя, когда он работал над книгами «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето», «они давали ощущение правильности избранного пути».
Это ощущение «истинности чувств и поступков» было свойственно изданной в Вологде книге партизана Н. Выжлова «Сквозь огонь войны» (1964, литературная запись А. Романова и Б. Ромо-дина), воспоминаниям Г. Герасимова «Партизанские километры» (Петрозаводск, 1965, литературная редакция П. Борискова). К своим фронтовым блокнотам, продиктованным в марте – апреле 1942 года стенографисткам «Красной звезды», вернулся К. Симонов и опубликовал в журнале «Дружба народов» в 1970-е годы дневники «Разные дни войны». В них он включил, помимо записей из военного дневника, страницы из последующей переписки с солдатами и офицерами, дополнения, основанные на знакомстве с архивными документами. К. Симонов назвал многие имена погибших и пропавших без вести, потому что «люди, которые умерли, не дожив и не долюбив, так и не успев сделать многого из того, что они хотели и могли сделать в жизни, с особенной остротой остаются в человеческой памяти» [35; 6].
Документальное начало прозы о войне призвано дать читателю ощущение своего рода
«момента истины» о людях, прошедших жестокое испытание войной. Ради «момента истины» Я. Ругоев стал собирать архивные документы и свидетельства оставшихся в живых участников двенадцатого похода. В личном фонде Я. Ругое-ва в Национальном архиве Республики Карелия (НА РК) хранится дело под названием «Рапорты, докладные записки, справки о деятельности отряда “Красный партизан” за 1941–1942 гг.», в котором имеются машинописные копии 37 документов на 148 страницах [6], в том числе «Боевой рапорт о действиях партизанского отряда “Красный партизан” по выполнению приказа НКВД за время с 9 июня по 4 июля 1942 года». Другим источником информации для писателя служили рассказы ветеранов «Красного партизана», с которыми Я. Ругоев неоднократно встречался на ежегодных сборах в районном центре Калевала. Позднее возникла типичная для писателя-документалиста и обозначенная С. С. Смирновым «необходимость как бы “просеять” все свидетельства – сличить их между собой, постараться объяснить встречающиеся противоречия, определить, что в этих показаниях неоспоримо и истинно, что вызывает сомнения, что только вероятно, возможно и нуждается в дальнейшей проверке и что представляется тебе невероятным и возникло как результат ошибки памяти или какого-то недоразумения» [37]. Когда картина партизанского похода стала ясной в деталях, Я. Ругоев смог осмыслить и оценить материал, найти художественный образ этого события.
Я. Ругоев строит свое произведение на основе хронологически последовательного рассказа. Действие очерка заключено в границы между 8 июня и 1 июля 1942 года, и каждому дню партизанского похода отведено несколько страниц, а иногда – строк. Повествование ведется от первого лица – человеком, который до мельчайших деталей знает тему. Отсюда – концентрация деталей, эпизодов, ощущений, разговоров, судеб, которые остались в неостывшей памяти автора. Я. Ругоев сам ходил в атаку, слышал свист пуль, хоронил боевых друзей. Все, о чем рассказано в очерке, автор сам видел, чувствовал, знал – все тяготы партизанского похода вынес на своих плечах. Спустя два десятилетия после окончания войны писатель уже с высоты времени оглядывается на свою партизанскую молодость и изображает будни партизанского похода такими, какими они были, с предельной достоверностью деталей времени.
В партизанскую жизнь входит многое: от малых деталей (в походе иной становится цена рыболовного крючка, от которого порой зависит жизнь партизана) до главных человеческих проблем: жизни и смерти, правды и лжи, чести и трусости. Когда в бою у реки Юрикка вражеская пуля настигла автора очерка, к нему бросился на помощь командир отделения Иван Никулин, перетащил в безопасное место и затем, сам будучи раненым, помог Яакко не отстать от отряда. На обратном пути партизаны несут пятерых тяжело раненных бойцов («порой, преодолевая бурелом, выбившиеся из сил ребята падают вместе с носилками» [30; 211]3) и, действуя на пределе сил, не оставляют попавших в беду товарищей. В этом проявляется высокая человечность бойцов, вчерашних калевальских крестьян и лесорубов, которые сохранили в душе добро, любовь к близким, верность идеалам солдатского товарищества.
Несмотря на локальность действия, сжатость формы, Я. Ругоеву удается передать характер героев очерка, преодолевающих самих себя во имя любви к Родине. Он изображает партизанскую войну такой, какой она была, – с нежностью и гордостью за своих земляков, чья духовная ценность столь зримо проявилась в Отечественную войну. Перед читателями, как живые, предстают командир отряда, смелый, строгий и справедливый Фаддей Журих («Он бережет людей, их силы, их хорошее настроение»); командир третьего взвода приземистый, широкоплечий Иван Кондратьев («В трудную минуту жалоб от него не услышишь – ввернет слово покрепче, и этим все сказано. В бою спокоен и хладнокровен»); бывший директор Ухтинской средней школы Конста Ханнолай-нен, мечтающий после войны, если суждено будет остаться в живых, устроить со своими учениками поход по партизанским тропам («Пусть по очереди потаскают вот такой “сидор” – узнают хоть малую частицу того, что пришлось испытать нам во имя их будущего»).
Являясь своего рода летописью партизанского похода, очерк детально регистрирует факты и события, вплоть до упоминания развалившихся от сырости американских солдатских ботинок, которыми снабдили партизан за неимением на складе другой обуви. Избранный писателем способ изображения, предоставление слова самой истории войны, порой приводит к хроникальности.
Очерк «Двенадцатый поход», созданный Я. Ругоевым на материале не только пережитого лично, но и обнаруженного в местных архивах и в беседах с очевидцами, сыграл значимую роль в осмыслении событий партизанской войны в Карелии 1941–1945 годов, в уточнении действующих лиц этих событий, в выяснении реального соотношения сил противников, освещении с точки зрения сегодняшнего знания действительности военных лет.
Спустя четверть века очерк «Двенадцатый поход» вошел в изданный на финском языке сборник «Korpisotaa vienan selkosissa» («Таежная война») (Петрозаводск, 1991), куда также был включен художественный роман финского писателя Э. Пиэтолы «Таежная война». Оба автора, Яакко Ругоев и Эйно Пиетола, – ветераны войны, один из Финляндии, другой из России. Оба их произведения рассказывают о войне в одних и тех же местах (Латваярви, Вуоккиние-ми, Ухта, Костомукша), но с разных позиций.
С одной стороны действует особый отряд егерского батальона финской армии, с другой – отряд «Красный партизан». Я. Ругоев прошел таежными тропами от деревни Гайколы до Костомукши по территории, оккупированной финскими войсками. А другой автор этой же книги, Эйно Пи-этола, в составе егерского батальона принимал участие в преследовании отряда «Красный партизан» с целью его уничтожения. Оба автора получили серьезные ранения в этих боях. «Прошли годы, бывшие противники встретились, подружились и опубликовали свои произведения одной книгой», – размышлял о превратностях судьбы А. Пеки [27]. Другой рецензент книги, кандидат филологических наук А. Мишин, обращал внимание на разницу в понимании смысла военных действий у воюющих сторон: если финские егеря вели военные действия на чужой территории и не имели патриотической мотивации, то карельские партизаны готовы были отдать жизнь ради освобождения родной земли, родного дома, занятого врагом. А. Мишин приводил в собственном переводе размышления героя очерка о необходимости преемственности подвига, чтобы прекрасное чувство патриотизма, любовь к Родине, присущие солдатам Отечественной войны, были восприняты новым поколением, чтобы они помнили названия рек, озер, деревень, помнили и любили землю предков. «А вдруг здешняя жизнь, жизнь карела, будет сметена войной. Те, кто придет сюда потом, признают ли они хотя бы эти, сотни лет назад данные здешним местам имена? – спрашивает Ругоев, заглядывая в наше время» [26].
Опубликованные Я. Ругоевым произведения о Великой Отечественной войне продолжали начатое им в «Сказании о карелах» воссоздание истории борьбы карельского народа за новую жизнь. Подчеркивание в героях национальной самобытности, правдивый показ народных нравов и обычаев, широкое использование средств карельского языка, почерпнутых из устнопоэтического творчества, эпическая манера повествования с позиций рассказчика-очевидца – все это вместе взятое характеризовало национальные особенности прозы Я. Ругоева. Рисуя достоверные картины народного сопротивления, его военная проза давала художественное и документально точное представление о национальном характере, быте и нравах карельского народа, выдержавшего тяжкие испытания Великой Отечественной войны.
Именно этими достоинствами привлекли составителей сборника «Карелия. Годы. Люди» (Петрозаводск, 1967) очерки Я. Ругоева «Девушка из легенды» (об учительнице-комсомолке Айно Пелконен, расстрелянной белофиннами), «Руны лучшие запели» (о сказительнице Марии Михеевой, во время войны трудившейся на лесозаводе в Архангельской области), «Полк майора Валли» (о мужестве составленного из уроженцев Карелии боевого подразделения). Вместе с другими авторами книги Я. Ругоев в 1967 году был удостоен звания лауреата журналистской премии Карелии имени К. Еремеева.
Соотношение судьбы человека с жизнью и борьбой карельского народа становится важным композиционным и сюжетообразующим началом еще одной документальной повести Я. Ругоева «Pekka ja Anja», опубликованной вначале на финском языке журналом «Punalippu» (1975, № 5), а спустя два года в переводе Н. Ругоевой появившейся на страницах газеты «Комсомолец». Главный герой произведения – солдат Пекка Ремшуев, но в его судьбе и в его подвиге, как солнце в капле воды, отражается подвиг народа, выстоявшего, несломленного, победившего. Действие повести начинается в июне 1941 года с картины движения через Ухту на фронт батальона, в котором служил Пекка, и заканчивается 9 сентября 1943 года, когда разведчик Ремшуев, будучи на задании в тылу у финнов, остался прикрывать отход взвода и, окруженный карателями, подорвал себя последней гранатой.
Основное внимание Я. Ругоева направлено на изображение непосредственного поведения героя в конкретных обстоятельствах войны. Причем каждый новый шаг, поступок героя помогает увидеть его в новом свете, понять движение человека из народа по ступеням нравственного обогащения. Более осязаемому, наглядному живописанию героя и тем самым более мотивированному раскрытию его побуждений и поступков способствует композиция повести: ряд глав написаны от лица сестры разведчика Кертту и его жены Аньи. В личном фонде писателя в НА РК сохранились документы о продолжавшейся 36 лет (с 1950 по 1986 год) переписке Я. Ругоева с вдовой разведчика Анной Емельяновной Мяки-Ремшуевой; о той дружеской помощи, которую писатель оказывал ставшей на войне инвалидом женщине; о том, как он поощрял ее желание написать воспоминания о Пекке Ремшуеве. В этих включенных в повесть воспоминаниях правдивость и нравственность взаимообусловлены и неразделимы. Они помогают увидеть масштабы трагедии нашествия захватчиков на карельскую землю и творимого народом героизма: «То лето было тревожным. Что ни день, с фронта в кемские госпитали везли раненых. Я все время думала о Пекке. Потом заболела, и меня увезли в кемскую больницу. Там родился наш сын Володя. Дни не проходили без воздушной тревоги. Осенью мы в больнице заразились брюшным тифом. Я долго была без сознания и о смерти сына узнала лишь после того, как пришла в себя. Ему был год и два месяца. Мне казалось, что жизнь кончена. Кроме того, у меня отнялись ноги. Я лежала, уставившись в потолок, не видя и не слыша ничего. Но вдруг появился какой-то проблеск мысли. Я спросила: “Какое сегодня число?” – “Второе декабря”. Я вспомнила, что, когда заболела, в Сталинграде шли уличные бои. “Скажите, как там дела?” – “Враг отступает”. Мне стало легче» [31]4.
Я. Ругоеву удается раскрыть взаимосвязи Пекки Ремшуева с родными и близкими, с фронтовыми друзьями, с земляками, которым он запомнился по совместной работе в лесной промышленности. Для писателя Пекка Ремшуев – олицетворение лучших качеств карельского народа. В разведвзводе он умеет быстрее всех разжечь костер, соорудить шалаш из еловых веток, сделать берестяную чашу, построить плот, поставить ловушку для рыбы и наладить переправу через реку подручными средствами. Как истинный карел он готов в походе прийти на помощь, но если видит леность бойца (однажды один из его товарищей посетовал на тяжелую ношу и предложил оставить плащ-палатки и часть патронов), то готов, перефразируя карельскую пословицу, сказать не без иронии: «Что это ты за птица, для которой перья в тяжесть?» Выросший в карельской семье, где «молчание – золото», Пекка не любит встревать в споры, да и вообще сам редко начинает разговоры, а предпочитает слушать, что говорят другие, и только потом высказывает свое мнение, тщательно продуманное и чаще всего дельное. В минуты отдыха Пекка любил петь карельские народные песни, вкладывая в них свою душу. «Мелодия его песни удивительно тонко сочеталась с карельской природой, со всем обликом Пекки. Спокойные, глубокие и чистые. Но в них была и сила, и вера», – пишет автор. Будучи военным корреспондентом, Я. Ругоев неоднократно выезжал на тот участок фронта, где воевал Пекка Ремшуев и где после его гибели воевали его друзья. Уже тогда он мог убедиться, что Пекка Ремшуев не забыт, что он живет в сердцах своих товарищей. В хранящемся в НА РК дневнике Я. Ругоева есть запись от 3 ноября 1943 года: «Достал материал о Петре Ремшуеве, героически погибшем на фронте. Буду писать о нем стихотворение». В судьбе и поступках крепкого телом и духом героя Я. Ругоев видел типичные черты карела – миролюбивого труженика, чуждого чувства национальной исключительности, способного без раздумий и колебаний подняться на смертельную борьбу с чужеземными захватчиками.
Я. Ругоев создает в повести характер человека, душевно благородного, с активной жизненной позицией, истинного патриота карельской земли. Автор строит повесть так, что приводимые в тексте примеры и факты отражают сущностное в характере героя, действующего в разведке в полную меру своих возможностей. Так, например, Пекка не может оставить в беде зацепившегося при переходе фронта за проволочное заграждение сапера и под огнем бросается на выручку. Распластавшись чуть ли не вровень с землей, как он умел во взводе один, он достигает цели, отцепляет раненого сапера и вместе с ним возвращается к своим.
Наделенный лучшими чертами своего народа, карел Ремшуев и в родном лесу чувствует себя спокойно и уверенно. Лес для него – олице- творение твердыни духа и силы, защитник вступивших в схватку с оккупантами бойцов. Когда взвод выходит в тыл врага, Пекка обычно идет впереди, в головном дозоре, «с потухшей трубкой, с зорко глядящими глазами и с “ушками на макушке”, как он обычно говаривал». Реальная основа повести была глубоко изучена Я. Ругое-вым, что укрепило ее достоверность.
Герой повести привлекает высотой своих нравственных критериев не только в исключительной обстановке боя, но и в отношениях с любимой женщиной. В заглавие повести вместе с именем героя вынесено имя его жены – обоих объединяет истинная человечность, выраженная в самой интимной сфере, в любви. Вопреки утверждению, что война огрубляет интимные отношения людей, Я. Ругоев на примере взаимной любви Пекки и Аньи показывает, что и в жестоких обстоятельствах войны герои его повести сохранили глубину и чистоту своего чувства.
«По сей день в десятках и сотнях калевальских семей скорбят по лучшим парням нашего края, по отцам, сыновьям и братьям, которым суждено было навеки остаться в лесных дебрях, болотах и на каменистых грядах между озерами», – писал Я. Ругоев, объясняя писательскую потребность памятью сердца обратиться к прошлому, рассказать о пережитом, разобраться в уроках войны, поведать о трагических следах душевных ран, воздать должное неисчерпаемой силе духа таких героев войны, как Пекка Ремшуев.
Память о войне постоянно жила в душе Я. Ругоева. В партизанском отряде он сумел проявить себя, закалить характер, обогатиться социальным, гражданским опытом. Военная молодость стала решающей порой становления характера, выработки мировоззрения, критериев нравственности и принципов творческого поведения. Он считал своим долгом познакомить читателя с подвигом фронтового поколения, готового защищать Отечество до последней капли крови. Последней по времени «военной» публикацией стало документальное повествование «Majuri Vallin Rykment-ti» («Полк майора Валли»). Первый вариант книги Я. Ругоев опубликовал в журнале «Punalippu» (1984, № 9, 10, 12; 1985, № 1). Отдельное издание книги на финском языке увидело свет в 1986 году. В следующем году журнал «Север» напечатал сокращенный перевод произведения. Через два года тиражом 15 тыс. экземпляров повествование о героическом пути полка под командованием майора Валли вышло в свет на русском языке отдельной книгой (в переводе С. Панкратова).
Путь от замысла произведения до его воплощения занял более четырех десятилетий. «Наш отряд “Красный партизан” действовал на севере Карелии, – вспоминал Я. Ругоев, выступая по карельскому радио 9 мая 1975 года. – Но и туда, еще летом и осенью 1941 года, проникали слухи о легендарных подвигах полка майора Валли. А в 1943 году, когда я уже работал военным корреспондентом и побывал на многих уча- стках Карельского фронта, мне приходилось то и дело слышать новые подробности о боевых делах солдат и офицеров этого полка. Но встретиться с ними в годы войны мне не удалось – полк был переброшен на другой фронт. После многолетних поисков мне удалось узнать, что бывший командир полка Вальтер Иванович Валли проживает в Пятигорске. В марте 1964 года состоялась первая встреча. Через год я съездил к нему еще раз. Проведенные в Пятигорске три недели дали мне очень много – я изрядно намучил Вальтера Ивановича и его супругу Ольгу Алексеевну, заставляя их рассказывать в мельчайших подробностях о прожитых боевых днях. От Валли были получены адреса бывшего нач-штаба полка Лаврентьева Д. С., командира батареи минометов Островского В. А., начхима полка Кудрявцева Г. П., проживающих ныне в Ленинграде. После встречи эти товарищи по моей просьбе написали свои воспоминания. Выступив по карельскому радио и опубликовав в газете “Неувосто-Карьяла” два больших очерка о 126-м стрелковом полке, я стал получать письма от бывших бойцов и офицеров полка. От них я узнавал всё новые и новые фамилии и адреса. К настоящему времени я имею переписку с уже тридцатью ветеранами полка. И так по цепочке выявлялись всё новые и новые подробности. Так, случайно, я обнаружил Кононова, Салмио, Ремшу из Вокнаволока, Хаккарайнена из Сортавалы, Якушева из Петрозаводска и других. Документов сохранилось мало. Устные рассказы непосредственных участников об одних и тех же событиях подчас резко расходятся. Это и понятно, в памяти всего не удержишь. А моя задача – добиться истины. Поэтому предстоят еще поиски, многие встречи и размышления» [2; 20–22].
126-й стрелковый полк 71-й дивизии, о котором решил написать книгу Я. Ругоев, в большинстве своем состоял из карел, ингерманланд-цев и финнов, уроженцев Карелии и Ленинградской области. В оборонительных боях в Карелии летом 1941 года полк в течение длительного времени удерживал занимаемые рубежи, оказывал упорное сопротивление крупным силам Карельской армии финнов. Лишь после того как вражеское командование ввело в бой свежие силы, 126-й полк начал вынужденный отход. Высокую стойкость и мужество проявил личный состав полка при обороне города Медвежьегорска. Полку было вручено Красное знамя Верховного Совета Карело-Финской ССР [23; 609].
Командовал полком Вальтер Валли, человек с необычной для офицера Красной армии биографией. Он родился в 1900 году в Финляндии, рано начал трудиться на лесозаготовках и сплаве; в семнадцать лет вступил добровольцем в финскую Красную гвардию и стал членом Социал-демократической партии Финляндии; попал в плен к белым и был осужден на три года тюрьмы; после освобождения перешел границу и начал новую жизнь в советской России. Здесь он (после учебы в интернациональной военно-пехотной школе в Петрограде) проявил себя как дисциплинированный, знающий ратное дело человек и в июне 1940 года был назначен начальником штаба 126-го стрелкового полка, которым тогда командовал Иван Михайлович Петров (Тойво Вяхя).
Переписка Я. Ругоева с участником легендарного отряда Тойво Антикайнена и чекистской операции «Трест» И. М. Петровым (Тойво Вяхя) продолжалась полтора десятилетия, а началась в 1960-е годы, когда И. М. Петров жил на пенсии далеко от Карелии и не мечтал о писательской карьере. В личном фонде Я. Ругоева в НА РК хранятся письма И. М. Петрова [8], направленные Я. Ругоеву в период между 4 июля 1966 года и 11 октября 1981 года (всего 29 документов), которые дают представление, с какой благожелательной настойчивостью Я. Ругоев втягивал фронтовиков в сферу писательских интересов, буквально заставляя их вернуться к воспоминаниям о войне.
«Уважаемый Яков Васильевич! – писал И. М. Петров 4 июля 1966 года. – Непростительно легкомысленно обещал Вам мои записи по 126-му стрелковому полку. К сожалению, ничего у меня не получилось, не получится, и в этом вы убедитесь после ознакомления с моими набросками. Прошу передать привет и самые лучшие пожелания ветеранам 126-го с. п. при встречах с ними!» [8; 1].
К письму были приложены две машинописные страницы под заголовком «В славном полку великой армии». Такая конспективность изложения не устроила Я. Ругоева, и он продолжал убеждать И. М. Петрова в необходимости вспомнить прошлое, продолжить работу над мемуарами. Настойчивость Я. Ругоева принесла свои плоды – И. М. Петров вновь сел за письменный стол, о чем сообщал в письме от 5 января 1967 года: «Я целиком во власти нового увлечения, столь сильного, что оно меня непреодолимо толкает в одном новом направлении. Может быть, смешно это – не по Ваньке шапка, но делать ничего не могу, засосало! Я начал с философских позиций изучение прошлых дел. Понимаю, что ноша нелегкая, ну что же – не доделано, не больше! Но я хочу понять мое время, это теперь моя и цель, и увлечение. Работаю я уже два месяца, работаю, как каторжник, по 5–8 часов в день, но я только в самом начале пути. Правда, есть уже и стоящие внимания наблюдения, даже чрезвычайно любопытные факты, но еще сырые. Читаю много, пишу много и еще больше рву» [8; 7].
Заинтересованный в писательской судьбе И. М. Петрова, Я. Ругоев сделал все возможное, чтобы ветеран переехал из Светлогорска Калининградской области в столицу Карелии, получил здесь квартиру и полностью углубился в работу над мемуарами. Чувством благодарности за поддержку в переломный для судьбы момент исполнено письмо И. М. Петрова Я. Ругоеву от 2 июля 1969 года:
«Дорогой Яков Васильевич!
Вы глубоко и искренне любите свой народ. Потому я так искренне люблю вас. Я вовсе не хочу сказать, что наши взгляды во всем совпадают, напротив! Полное единодушие, согласие во всем бывает только в могиле. Пишу я вам это письмо не для утверждения сказанной, известной давно истины.
Дорогой мой Яков Васильевич! Я в тупике. Давно уже, а особенно когда взялся за эти мои “Записки”. Помните ли Вы мои слова в гостинице “Северная” пару лет назад? Знаю, что они не понравились вам, или показались криком души. Я вам тогда кое-что показывал. Правда, потом уничтожил. Понял нелепость больших обобщений малыми силами. От самих мыслей отказаться не мог. Мои они, и для меня в них нет неправды. Работа над “Записками” с особой силой обязывает меня понять мое время и мой мир. И чем больше ищу понимания, тем явственнее вижу тупик и совсем не вижу для себя выхода из него. Простите, что отрываю вас от дел. Это письмо действительно крик души в смятении» [8; 21].
И вновь Я. Ругоев смог убедить ветерана в огромной значимости его писательской работы, в необходимости продолжить успешно начатую рукопись мемуаров, чтобы не были забыты герои в солдатских шинелях. В итоге воспоминания И. М. Петрова «Красные финны» были опубликованы в Петрозаводске в 1970 году, а за ними последовали мемуарные книги «В переломные годы» (1978), «Мои границы» (1981). В 1973 году И. М. Петров был принят в Союз писателей, в 1976 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Петрозаводска», в 1979 году он был удостоен Государственной премии КАССР в области литературы.
Другим примером личной ответственности Я. Ругоева за судьбу солдат и офицеров 126-го стрелкового полка 71-й дивизии может быть его вмешательство в полную драматизма жизнь Вилле Вайнио (родного брата И. М. Петрова), который в качестве начальника штаба возглавляемого В. Валли полка проявил себя как один из самых толковых и энергичных офицеров. После ранения и госпиталя он был направлен со специальным заданием на оккупированную территорию в Петрозаводск, а по возвращении, спустя некоторое время, был арестован и приговорен к десяти годам лагерей. О том, что В. Вайнио жив и работает учителем труда в школе карельского села Ильин-ское, Я. Ругоев узнал в ходе предпринятого им поиска ветеранов 126-го полка, о чем сообщил В. Валли и получил от него письмо из Пятигорска от 12 ноября 1964 года:
«Добрый день, Яков Васильевич!
Большое спасибо за праздничные поздравления и тысячу раз спасибо за то, что нашел В. Вайнио. За войну в моем подчинении находились многие сотни командиров, и если бы мне задал вопрос, кому из них я бы дал самую лучшую боевую характеристику, я бы, не задумываясь, ответил – Вайнио.
Вайнио дисциплинирован, исполнителен, в военном деле грамотный, работает вдумчиво, хладнокровно, в любой обстановке не унывает, в успешном исходе боя не сомневается, ни при каких обстоятельствах, даже самых тягостных, не хныкает. В будущей книге фото Вайнио должно быть на самом почетном месте» [7].
Я. Ругоев предпринял шаги по реабилитации В. Вайнио. В письме Я. Ругоеву от 9 марта 1966 года В. Вайнио приводил текст полученного им из Москвы документа: «Дело, по которому Вы были осуждены в 1946 году, определением военной коллегии Верховного суда СССР от 3 марта 1966 года прекращено за отсутствием состава преступления. По этому делу Вы реабилитированы. Справку о реабилитации Вам должны выслать из Военной коллегии Верховного суда СССР» [7; 11].
Вместе с В. Валли Я. Ругоев предпринял усилия, чтобы В. Вайнио за прошлые боевые заслуги был награжден орденом Отечественной войны первой степени.
После публикации в газетах и журналах первых материалов о действиях 126-го стрелкового полка Я. Ругоев стал получать отклики со всех концов Советского Союза. Несколько писем пришло от ветерана Отечественной войны Михаила Ивановича Литвина из Казани. В них бывший политрук приводил схему боев 4-й роты и выхода ее из окружения, рассказывал о командире роты М. Ф. Смирнове, разведчике сержанте Крестьянинове, красноармейце Потапове и высказывал автору пожелание помнить, что «истина дороже»:
«Дорогой Яков Васильевич!
Уж раз вы просили указать на неточности и сделать замечания по тексту в журнале “Север”, я сделал это, руководствуясь пословицей древних: “Платон мне друг, но истина дороже”. Уверен, что после внесения предложенных мною уточнений и изменений Ваша книга только выиграет. Я не претендую на безупречность литературной формы изложения, это уже прерогатива писателя, но что касается содержания, то я остаюсь на своей точке зрения. Многовато работы? Да. Но она окупится правдивостью и ценностью книги» [14; 20].
Верные заповедям фронтового братства, ветераны в деталях рассказывали о подвиге боевых товарищей и меньше всего – о себе. Вальтер Валли писал Ругоеву 26 марта 1967 года: «Яакко, очень прошу тебя, про мою личность пиши меньше, помягче, не надо подчеркивать В. Валли» [7; 54].
Вместе с героями будущей книги Я. Ругоев был убежден, что совершить подвиг может каждый патриотически настроенный человек. После разоблачения «культа личности» идея «массового героизма» была в литературе о войне намного привлекательней, чем «культ героя». Критик В. Пискунов писал в 1965 году, что «именно сегодня с особенной остротой видишь, какой большой вред военной литературе принес своеобразный “культ героя”, поставленного над ря- довыми участниками жизни, узурпирующими права всех остальных» [28; 48–49]. И хотя в заглавие своей книги Я. Ругоев вынес имя одного героя – майора Валли, но через испытания, которые выпадают на долю командира, проходит каждый солдат полка. Я. Ругоев поставил своей задачей показать героическое в самом массовом его проявлении. «Материал, который в конце концов, после многолетнего собирания, оказался в моих руках, позволял написать традиционный роман, – писал Я. Ругоев в слове «От автора». – Или цикл рассказов. Или несколько повестей. Если бы присоединить к этому материалу документы военных архивов начала войны, книга могла бы вылиться в историческое исследование. Подумав, я решил иначе: пусть в моем рассказе о делах и людях 126-го СП прозвучат голоса солдат и офицеров этого полка. Из отдельных рассказов складывалась общая картина тех трудных дней и общего героического поведения бойцов и командиров» [33; 3–4]5.
Не сразу Я. Ругоев смог определить жанр своего произведения. Отдельное издание на финском языке имело подзаголовок «Документальный роман» [38]. В русском варианте (1989) жанр произведения определен издательством как «документальное повествование». В помещенной на той же странице краткой аннотации говорилось иное: «Роман основывается на документальном материале, воспоминаниях бывших воинов 126-го стрелкового полка и его командиров – В. Валли, В. Вайнио и др.» [34; 336]. Сам Я. Ругоев первоначально был уверен, что «в результате 20-летней поисковой работы удалось завершить и издать (1986 г.) документальный роман “Полк майора Валли”» [4; 77]. Какое же из двух определений («документальный роман» или «документальное повествование») выглядит более убедительным в отношении представленной на суд читателя новой книги Я. Ругоева?
Как известно, роман – это «эпическое произведение, в котором повествование сосредоточено на судьбе отдельной личности в процессе ее становления и развития, развернутом в художественном пространстве и времени» [24; 329]. В русской литературе заслуга в раскрытии «диалектики души» принадлежит Л. Толстому и Ф. Достоевскому. В классической советской литературе 1920–30-х годов («Разгром» А. Фадеева, «Хождение по мукам» А. Толстого, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького) на первый план вышла история, властно врывающаяся в сердцевину «частной жизни». Позднее, под влиянием «теории бесконфликтности», призывов к растворению личности в коллективе из советского романа стал вытесняться историзм характеров, через которые и входит история в художественное произведение. Рядом с сохранившимися жанровыми разновидностями романа (сатирический, научно-фантастический, исторический роман, роман-эпопея) появились новые романические жанры. Свою книгу о партизанской войне в Карелии
«За чертой милосердия» (Петрозаводск, 1977) Д. Гусаров назвал «роман-хроника».
Создавая книгу «Полк майора Валли», Я. Ру-гоев не только поднял архивы, связанные с показаниями очевидцев, но и обратился через газеты и журналы к участникам событий с просьбой прислать ему свои дневники и воспоминания, лично встречался с ветеранами, читал им отдельные главы, неоднократно исправлял первоначальный текст. Естественным был отказ в данном случае от вымышленных персонажей, ибо налицо были биографии и рассказы подлинно существовавших сотен людей. Писатель сделал центральным персонажем майора Валли, так как за точность его воспоминаний он мог ручаться. В текст были вставлены рассказы других участников, процитированы опубликованные в России и Финляндии воспоминания ветеранов боевых действий. Основным принципом повествования стал принцип своего рода летописи: день за днем, месяц за месяцем описаны события второй половины 1941 года, начиная от первых столкновений на границе с противником и до оборонительных боев под Медвежьегорском. В результате литература о Великой Отечественной войне обогатилась «документальным повествованием» «Полк майора Валли».
Назвать же книгу Я. Ругоева «романом» – значило бы согласиться с по сути разрушающей жанр трансформацией летописного повествования в эпическое произведение, жанрообразующим фактором которого является прежде всего «идея личности», «изображение чувств, страстей и событий частной и внутренней жизни людей» [21; 122], свободное владение всеми приемами изображения человеческого характера, точность и красочность слова; не только верное историческое изображение событий, но и богатая творческая фантазия, позволяющая писателю воссоздавать действительность во всей жизненной полноте.
Литературовед Элли Алто, отметив, что «композиция произведения мозаична, состоит из многих самостоятельных эпизодов», предпочла назвать «Полк майора Валли» «документальным повествованием, напоминающим мемуарную прозу» [20; 315].
Но какие бы споры ни возникали вокруг жанрового определения книги «Полк майора Валли», непреложным остается одно: Я. Ругоев создал произведение, которое стало заметным событием в общественной жизни Карелии и Финляндии (где книга была впоследствии переиздана). Ни один из исследователей событий Великой Отечественной войны в Карелии не сможет миновать того, что было открыто Я. Ру-гоевым в своей книге, сила которой – в правдивости ее основы, добросовестности писателя в разработке исторического материала, в высоком, патриотическом понимании подвига карельского народа в годы войны.
«Прочитав в журнале “Север” Вашу документальную повесть “Полк майора Вали”, – пи- сал Я. Ругоеву читатель Ю. Соловьев из города Волжский Волгоградской области, – я твердо уверовал, что навсегда полюбил этот край и его людей. Чем дальше я читал, тем сильней утверждался в убеждении, что хотя Вальтер Валли и чисто историческая личность, но Вы как писатель хотели бы показать через Валли настоящее, подлинное лицо народа Вашего родного края. Это Вам удалось. Мне редко приходилось видеть карелов и финнов, и тем более быть с ними в близком знакомстве, но Вальтер Валли стоит перед моими глазами, как живой, как будто я с ним был давно, давно знаком. Повторяю: теперь о народе Карелии я буду судить только по нему – майору Валли» [9; 32–34].
Как это и присуще документальной литературе, в книге «Полк майора Валли» творческий вымысел сведен к минимуму. Повествование строго ориентировано на достоверность и всестороннее исследование документов. По тематике и по формам, сочетающим хронику событий, репортажи с биографиями исторических лиц и героев Великой Отечественной войны, книга Я. Ругоева находится в одном ряду с такими произведениями, как «Брестская крепость» С. С. Смирнова, «Берлин, май 1945» Е. Ржевской, «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина. Воспроизведя перед нами ту или иную сторону военной действительности, рисуя самые различные судьбы, Я. Ругоев стремился, по его словам, чтобы со страниц книги прозвучало «полное взаимопонимание как между бойцами, так и между бойцами и командирами… солдатское понимание командирской чести, человеческого достоинства, высокого гражданского патриотизма – какими эти понятия живут в народе».
«Авторские отступления, описания природы, чувств, внутреннего мира героев являются сдержанно лирическими» [13; 6–7], – отмечал в своей рецензии Тойво Вяйзянен. И действительно, от начала и до конца повествование выдержано в привычном для Я. Ругоева спокойном тоне объективного, реалистического изображения военной действительности. И вместе с тем уже с первой главы «Не в землю слава уходит…» появляется автор, который неприметно приковывает читательское внимание к тем вещам, которые представляются для него важными и ценными. Именно в восприятии автора, через его воспоминания о личных встречах с Вальтером Валли и его супругой, раскрывается тема о самом важном и значительном в их личной жизни, о чистоте и ясности их супружеской любви, о внутренней значительности стремлений и чувств полковника в отставке В. Валли, который «говорил мало, очень мало, только самое необходимое», но все его поведение на войне и на «миру» подчеркивало прежде всего «безусловную честность и прямоту».
Присутствие автора чувствуется и в пейзажных зарисовках, по-крестьянски «приземленных» и немногословных: «Птицы распевали на деревьях. Муравьи тащили всякий сухой мусор в свои кучи. Весна собиралась медленно перелиться в лето, и всякая живность радовалась предстоящему теплу. И люди радовались. Мало тепла на Севере, каждый день дорог». Заключающее картину весеннего пробуждения природы лирическое авторское раздумье придает пейзажу новое качество. Простая фиксация фактов приобретает новый смысл, ибо речь идет о событиях раннего утра 22 июня 1941 года, о скором обрушении мирной идиллии.
В главе «Самый черный день» рассказу о потере полковой артиллерии возле Мяндусельги предшествует авторское отступление: «Вот говорят люди: запас про черный день или оставь на черный день. И в первые месяцы войны для 126-го полка таких дней набиралось немало, каждый по-своему черный: то потери в людях, то промахи в обороне. На войне как на войне – в одни ворота не играют». В последней фразе через авторское восприятие выражено истинно народное (вспомним Каратаева из «Войны и мира» Л. Толстого) отношение к тяжелым обстоятельствам войны, великое терпение и стойкость северян в преодолении «черных дней», что не в последнюю очередь помогло одержать верх над врагом.
В образе командира первого взвода 1-й минометной роты Самппы Иванова («деревенского человека», как характеризует его автор) – квинтэссенция того исторического оптимизма, который помог карельскому народу пройти через грозы и беды войны. Тип национального характера воплощен писателем в крестьянине-воине с великой симпатией и теплым лиризмом. Одна из самых удавшихся глав книги («Самппа Иванов») рассказывает о краткосрочном отпуске минометчика в родное село: как мать, дочурки и жена бросились его обнимать, какой жаркой, пахнущей березовым листом была деревенская баня. Как отмечал Р. Ко-ломайнен, «в лирических воспоминаниях карела Самппы Иванова, побывавшего дома, баня – емкий и эмоционально насыщенный образ» [13; 2–3]. В том, с какой любовью Самппа воспринимает деревенскую жизнь (где все знали его сызмала и где он всех знал в своей родной Хейняярви), ощущается явственное присутствие автора, который, как и Самппа, научился в карельской деревне ходить по земле, обрел искусство таежника, охотника и рыбака и на всю жизнь полюбил свой народ, чтобы сказать со страниц книги во всеуслышание: «Здесь с древнейших времен живет прекрасный карельский народ, самостоятельный, с чувством большого внутреннего достоинства северный народ, не привыкший прислуживать и кланяться, честно добывающий свой хлеб насущный – с пашни, в лесах, с водных глубин». Поэтому у таких, как Самппа Иванов, самым главным было «чувство защитника своей земли», ставшее истоком мужества и храбрости в бою с захватчиками.
Произведения Я. Ругоева о событиях Великой Отечественной войны дороги чистым сиянием правды, сердечной искренностью, все возрастаю- щей мерой зрелости в осмыслении явлений, связанных с изображением народного подвига. Этими достоинствами отличается и вошедший в «Библиотеку всемирной литературы» (Т. 1. М., 1975) рассказ Я. Ругоева «Вся жизнь впереди», опубликованный ранее в журнале «Дружба народов» (1970, № 5).
Вдали от человеческих троп сталкиваются оставленные после боя в лесу, обессилевшие от ран герои рассказа – карел Алекси и финский капрал Пекка Хювяринен. После краткой схватки сильнее оказывается Алекси. Капрал подчиняется приказу советского разведчика и берет направление на восток, в плен. Он получает возможность приглядеться к Алекси (тоже израненному и обессиленному, но поклявшемуся доползти до своих и привести с собой пленника), понять и оценить присущие карелу стойкость, силу воли, великодушие. «Ему жадно захотелось жить», – замечает писатель, прослеживая перемены в мироощущении Пекки: от ненависти – к доверию, к пониманию бессмысленности войны со страной, которую защищают такие люди, как Алекси. Но перемены происходят и в мироощущении разведчика. Как пишет И. Рогощенков, «наш солдат увидел с собою рядом страдавшего, как и он, человека, которого надо поддержать, которому надо помочь (“Пекка, не отставай, заблудишься… Вся жизнь впереди”). Не ненависть – сострадание и соучастие к жизни другого придавали теперь силы» [29; 270].
О таком сострадании и соучастии, которое может распространяться не только на близких, но и на врагов, размышлял тяжело раненный в Бородинском сражении Андрей Болконский из «Войны и мира» Л. Толстого. Мысли о всеобщем прощении рождаются у Болконского вместе с приливом религиозных чувств, верой в мудрость творца. Но как в «Войне и мире» Л. Толстого они вступают в противоречие с изображением героического отпора народа иноземным захватчикам, так и в «военной» прозе Я. Ругоева они соприкасаются с примерами глубокого патриотизма карельского народа, что находит выражение в ясной решимости уничтожить государственно-военную машину фашизма, мужественно защищать родную землю.
В «военной» прозе Я. Ругоева на протяжении всей его творческой деятельности происходило расширение и углубление понимания того, что пережил народ в годы Великой Отечественной войны. От публикаций военных лет с их пафосным, но зачастую поверхностным изображением фактов и переживаний писатель шел к показу не только социальных, но и психологических, духовных, нравственных истоков героизма и патриотизма защитников Отечества. Размышления Я. Ругоева о событиях войны были тесно переплетены с мыслью о судьбе родной земли, которую нужно беречь и обихаживать не только для себя, но и для будущих поколений.
ПРИМЕЧАНИЯ
Я. Ругоев указывает, что он «работал над “Таежной юностью” в 1960–1970-е годы» и что «заканчивал “Таежную
юность” о В. Кириллове в 1978 году» [19; 178].
Дальнейшие ссылки на это издание даются без указания страниц.
Дальнейшие ссылки на это издание даются без указания страниц.
Дальнейшие ссылки на это издание.
Дальнейшие ссылки на это издание даются без указания страниц.
Список литературы Военная тема в прозе народного писателя Карелии Яакко Ругоева
- Личный архив А. М. Степанова (Ортье Степанова).
- НА РК. Ф. 3716. Оп. 1. Д. 58.
- НА РК. Ф. 3716. Оп. 1. Д. 672.
- НА РК. Ф. 3716. Оп. 1. Д. 683.
- НА РК. Ф. 3716. Оп. 1. Д. 923.
- НА РК. Ф. 3716. Оп. 1. Д. 926.
- НА РК. Ф. 3716. Оп. 1. Д. 1199.
- НА РК. Ф. 3716. Оп. 1. Д. 1306.
- НА РК. Ф. 3716. Оп. 1. Д. 1413.
- НА РК. Ф. 3716. Оп. 1. Д. 1744.
- НА РК. Ф. 3716. Оп. 1. Д. 1745.
- НА РК. Ф. 3716. Оп. 1. Д. 1764.
- НА РК. Ф. 3716. Оп. 1. Д. 1769.
- Письма Ругоеву Литвина Михаила Ивановича. На 27 листах. Даты 15 июля 1985 -7 января 1988//НА РК. Ф. 3716. Оп. 1. Д. 1271.
- Письма Халме Эркки. Фотографии финских солдат, советских партизан и мирных жителей времен Великой Отечественной войны//НА РК. Ф. 3716. Оп. 1. Д. 1366.
- Письмо С. П. Кириллова Я. Ругоеву от 12 декабря 1975 г.//НА РК. Ф. 3716. Оп. 1. Д. 1408.
- Письмо Я. Ругоева В. А. Шошину от 24 марта 1985 г.//НА РК. Ф. 3716. Оп. 1. Д. 1184.
- Ругоев Я. Тексты радиовыступлений о событиях и участниках Великой Отечественной войны//НА РК. Ф. 3716. Оп. 1. Д. 58.
- Рукописи Я. Ругоева//НА РК. Ф. 3716. Оп. 1. Д. 173.
- Алто Э. Л. Финноязычная литература Карелии. СПб.: Наука, 1997. 245 с. (История литературы Карелии. Т. 2.)
- Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 7. М.: АН СССР, 1955. 740 с.
- Быков В. Жизнью обязан//Литературная газета. 1974. 6 ноября.
- История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск: Периодика, 2001. 943 с.
- Литературный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1987. 750 с.
- Манн Ю. К спорам о художественном документе//Новый мир. 1968. № 8.
- Мишин А. Неурожайный год литературы//Северный курьер. 1992. 21 апреля.
- Пекки А. Книга о таежной войне//Петрозаводский университет. 1992. 23 апреля.
- Пискунов В. Написано войной//Живая память поколений. М.: Худож. лит., 1965.
- Рогощенков И. Прозорливость любви//В поисках и преодолении: Сб. критич. ст. Петрозаводск: Карелия, 1976.
- Ругоев Я. Двенадцатый поход. Страницы из партизанского дневника/Пер. с финн. Т. Сумманена//Ругоев Я. Большой Симон. Рассказы. Очерки. Петрозаводск: Карелия, 1975.
- Ругоев Я. Пекка и Анья/Пер. с финн. Н. Ругоевой//Комсомолец. 1977. 24, 26, 29, 31 марта; 2 апреля.
- Ругоев Я. Двести пятьдесят шесть дней. Документальная повесть//Ругоев Я. Избранное. Л.: Худож. лит., 1978.
- Ругоев Я. От автора//Ругоев Я. Полк майора Валли: Документальное повествование/Пер. с финн. С. Панкратова. Петрозаводск: Карелия, 1989.
- Ругоев Я. Полк майора Валли: Документальное повествование/Пер. с финн. С. Панкратова. Петрозаводск: Карелия, 1989. 334 с.
- Симонов К. Мурманское направление. Мурманск: Книжное изд-во, 1972. 350 с.
- Симонов К. Страницы из книги «Сегодня и давно»//Север. 1973. № 6.
- Смирнов С. С. Правду, ничего кроме правды//Литературная газета. 1974. 6 декабря.
- Rugojev J. Majuri Vallin rykmentti: Dokumentaarinen romaani. Petroskoi: Karjala-kustantamo, 1986. 422 s.