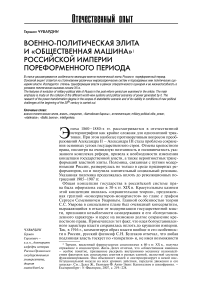Военно-политическая элита и "общественная машина" Российской империи пореформенного периода
Автор: Чувардин Герман Сергеевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 2, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности эволюции военно-политической элиты России в пореформенный период. Основной акцент ставится на столкновении различных мировоззренческих систем и порождаемых ими политических сценариев власти. Исследуется степень трансформации власти в рамках этакратического сценария и ее жизнеспособность в условиях политических вызовов начала ХХ в.
Военно-политическая элита, власть, этакратия, "балтийские бароны", интеллигенция
Короткий адрес: https://sciup.org/170165714
IDR: 170165714
Текст научной статьи Военно-политическая элита и "общественная машина" Российской империи пореформенного периода
Э поха 1860–1880-х гг. рассматривается в отечественной историографии как крайне сложная для однозначной трактовки. При этом наиболее противоречивым вопросом преобразований Александра II – Александра III стала проблема сохранения основных устоев государственного строя. Отмена крепостного права, несмотря на очевидную поэтапность и половинчатость указанного комплекса реформ, привела к необходимости изменения концепции государственной власти, а также вероятностных трансформаций властной элиты. Полемика, связанная с путями модернизации России, развернулась не только в среде придворных реформаторов, но и получила значительный социальный резонанс. Указанная полемика продолжалась вплоть до революционных потрясений 1905–1907 гг.
ЧУВАРДИН Герман
Сергеевич – к.и.н., доктор ант кафедры истории России Орловского государственного
Общая концепция государства в российской системе права была оформлена еще в 30-х гг. XIX в. Краеугольным камнем этой концепции являлась «охранительная теория», предложенная группой «консерваторов-монархистов» во главе с графом Сергеем Семеновичем Уваровым. Главной особенностью теории С.С. Уварова в социальном плане был очевидный консерватизм, выражающийся в отказе от модернизации государственной власти, признании незыблемости самодержавия и его «богоустановленного характера» и курсе на возможно долгое сохранение крепостного права. Примечателен тот факт, что идея богоустановленного характера власти сохранялась вплоть до крушения империи. Так, в 1916 г., комментируя образ власти вообще и его особенности в России, русский философ С.Н. Булгаков отмечал, что любая подлинная власть тоскует по «теократии» и, не имея возможности
1 Термин, введенный французскими социологами в 60-х гг. ХХ в., получил отражение в социометрии. Жиль Делез отмечал, что «общественная машина» – особое понятие, призванное раскрыть внутреннюю механику взаимодействия факторов как социальных агентов в рамках единой, целостной системы функционирования. Она объединяет людей и «интериоризирует в некой институциональной модели на всех уровнях действия, передачи движения и его запуска». См.: Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007, с. 219–228.
стать таковой, вынуждена «извращаться» в «монархию»: «поэтому “царство и сила, и слава”, истинная власть, принадлежат одному Богу, земная же власть есть символ Божественного всемогущества»1.
Следует отметить тот факт, что все связанное с модернизацией трактовалось как богоотступничество и, следовательно, власть боялась самой себя, совершая очередную реформу. Примечателен тот факт, что идеологи «уваровского толка» рассматривали крестьянство как неспособную к государственному мышлению, отсталую среду, тяготеющую к бунту и анархии. Логика их рассуждений сводилась к утверждению антигосударственного характера мировоззренческих установок крестьянства, которое ни в коем случае нельзя было допускать к управлению чем-либо, в т.ч. и самим собой. Таким образом, подавляющая часть населения страны в государственном мышлении «выдающихся русских теоретиков-государственников» рисовалась как враждебная России и государству группа.
Следует отметить, что, с точки зрения теоретиков государства рубежа XIX–ХХ вв. (Д.А. Хомяков, П.Е. Казанский и др.), российская монархия прошла несколько этапов – монархию народную, боярскую, дворянскую, бюрократическую. Причем в бюрократическую фазу российская монархия вступила отнюдь не во времена Николая I, как считают отечественные историки, а после отмены крепостного права2.
С XVIII в. властная бюрократия, в силу ее очевидного военного происхождения, трактовалась как военно-политическая элита. Можно с определенной долей уверенности утверждать, что к началу ХХ в. в России по-прежнему сохранялись основные элементы аристократической модели государства, которая под воздействием реформ начинала трансформироваться в этакратическую. Политической правящей элитой России был генералитет. Фактически до 80-х гг. XIX в. почти все государственные учреждения возглавлялись генералами или приравненными к ним чиновниками. По этому поводу один из исследователей указанной проблемы публицист и историк В. Шурыгин писал:
«Традиционно генерал в России больше, чем генерал. Так уж повелось. Почти до конца прошлого века культурная и политическая элита России была самым тесным образом связана с армией и военной службой». В петровской «Табели о рангах» каждому чину чиновников соответствовало военное звание, но уже самое младшее офицерское звание давало право на потомственное дворянство, тогда как «штатские» получали это право, лишь переходя в VIII класс (из XVI имеющихся)»3.
Еще одним важным моментом был рост удельного веса так называемой «немецкой партии» в структуре властной элиты, который четко обозначился с приходом к власти Александра I и приобрел интенсивный характер в эпоху Николая I. Важное место в комплектовании российской властной элиты играл «немецкий оазис» Российской империи – Остзея, созданный еще Петром I. Анализируя присутствие «иноземцев» во власти в XVIII – начале ХХ вв., мы должны выделять группы «своих немцев» (остзейцев) и «чужих немцев». По сути Остзея – всего лишь название Балтийского моря, по-немецки Ostsee . Тем не менее с ним связано такое важное для русской истории XIX в. явление, как балтийские немцы («бароны»), – этническое немецкоязычное меньшинство, имеющее прямое отношение к Тевтонскому ордену и ордену братьев-меченосцев, с XII в. проживавших на восточном побережье Прибалтики. Балтийские немцы составляли верхние слои общества: «рыцарство» и большую часть среднего сословия – свободных городских граждан в тогдашних землях Курляндии, Лифляндии, Эстляндии и о. Эзель (всего около 6% от коренного населения). К 1880-м гг. в соответствии с привилегированными дворянскими списками-матрикулами на указанной территории проживало: в Лифляндии – 405, Эстляндии – 335, Курляндии – 336 и на острове Эзель – 110 имматрикулирован-ных родов4.
Особый статус региона («особый остзейский порядок») был закреплен Сводом местных узаконений 1845 и 1864 гг. Как известно, получив свою «маленькую Германию», российские императоры допустили остзейских баронов в различные институты государстве нной власти, в т.ч. и в армию.
Анализ численного состава властной элиты в эпоху Николая I и Александра II позволяет говорить о сильной «немецкой группе» (при подавляющем перевесе остзейцев) в военно-политической элите, составлявшей костяк государственной власти Российской империи (можно назвать герцогов Лейхтенбергских, великих герцогов и принцев Ольденбургских, герцогов Мекленбург-Стрелицких). Можно также поразмышлять на тему о «немецкой женской партии» (великих княгинь) и степени влияния этой партии на принятие властных решений.
Следует отметить тот факт, что остзейцы проявляли большую самостоятельность и отличались более высоким чувством ответственности. Это во многом было обусловлено спецификой развития региона, где с момента включения этих областей в состав России существовали органы местного самоуправления. К тому же, будучи «рыцарями», немецкие бароны были преданы сюзерену, а не абстрактным государственным идеалам.
В русском дворянстве и чиновничестве, по словам Н.А. Бердяева, наблюдалась пропасть между верхним культурным слоем, который тогда служил в гвардии, и средней массой дворянства, невежественной и мелочно деспотической1. В армии было распространено хамство в отношении личного состава и рукоприкладство (как ни пытаются современные историки «обелить честь» русского мундира). Так, в лейб-гвардии Московском полку солдаты безрезультатно в течение полугода (1899 г.) жаловались на своего ротного капитана Бобровского, который не только занимался рукоприкладством, но и постоянно оскорблял их, называя «идиотами, арестантами, животными» и т.д. Вот пример одной подобной жалобы: «Ротный командир капитан Бобровский … во время проверки солдат строевому занятию, а в особенности молодых, позволяет себе бить по рукам, толкать и рвать за уши, всегда грозит каждому из нас и дает обещания отдать под суд и перевести в разряд штрафованных… каждого солдата обзывает как какую нибудь скотину, ни зовет по фамилии, а все рестантами»2. Примечателен тот факт, что командир полка генерал-майор В.Г. Глазов жалобы личного состава игнорировал и «хода делу не давал».
Еще хуже обстояли дела во флоте. Великий князь Кирилл Владимирович отмечал, что все капитаны и старшие офицеры кораблей, на которых ему пришлось начинать военную службу, фактически безнаказанно издевались над своей командой3. Следует отметить тот факт, что в русской армии спор о «специфике» отношения к подчиненному рядовому составу существовал еще со времен Александра I. Генерал А.И. Деникин, характеризуя положение в русской армии на рубеже XIX–ХХ вв., писал следующее: «Кулацкая расправа стала изнанкой казарменного быта, скрываемой, осуждаемой, преследуемой»4.
Наличие мощной «немецкой» партии властных бюрократов выдвигало на повестку дня еще один вопрос – национальный, который тесно переплетался с конфессиональным. Эпоха Николая I характеризуется резким ростом национализма и, в первую очередь, антисемитских настроений в русском обществе. Государственный антисемитизм достигает своего апогея к эпохе Александра III. Рост национализма в указанную эпоху касался и антинемецких настроений. Сам царь немцев не любил, но и остзейских «баронов» от престола не гнал. Придворный врач Н. Вельяминов по этому поводу писал: «По традициям из глубокой старины при Дворе премировала немецкая партия, с упорством защищавшая свои позиции против русских. Государь и Императрица не особенно долюбливали немцев вообще»5.
Не удивительно, что Н.Х. Бунге, немец по происхождению, обучавший финансовому праву Александра III, посвящает целую главу своих «Загробных заметок» – важнейшего документа для понимания особенностей развития России пореформенного периода – национальной проблеме в империи. Он называл механизм администрирования, связанный с преобразованиями в прибалтийских губерниях, «разумным и целесообразным». Еврейский вопрос и его разрешение Н.Х. Бунге назы- вает «заколдованным кругом», грозящим России «огромными неприятностями»1.
Примечателен тот факт, что «национальная тематика» особенно волновала русских религиозных философов2. Но именно в пространстве русской религиозной философии Серебряного века закладываются корни философии антисемитизма, а в конечном счете – и так называемого «русского фашизма». Русские философы, а отчасти и историки, стояли у истоков теории русского, точнее славянского, империализма (панславизма). Наиболее известная в этом плане работа – исследование Н.Я. Данилевского «Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к ГерманоРоманскому», которое к началу ХХ в. выдержало шесть изданий.
На этом фоне «совесть русского народа» – интеллигенция (Н.А. Бердяев ведет отсчет ее возникновения от славянофилов и западников, а образ первого русского интеллигента он видит в А.Н. Радищеве), представленная массивом выходцев либо из среды бедного русского дворянства, либо детьми личного дворянства, либо разночинцами, – видела в немце-бюрократе врага, как писал В.О. Ключевский, «вывалившегося из дырявого грязного ведра и облепившего русский престол». Но именно русская интеллигенция сыграла в отечественной истории трагическую роль – стала одной из сил, уничтоживших «старую Россию». Здесь также следует упомянуть «прозападную» группу русской интеллигенции, питавшую ненависть к России в духе «россиененавистничества» Владимира Печерина и стоявшую у истоков так называемого «масонского проекта как формы самоорганизации обще-ства»3 (наиболее характерный пример – М.М. Ковалевский). Противостояние стремительно деградирующей властной аристократии, составлявшей к началу ХХ в. костяк военно-политической элиты империи, и изначально деструктивной, «декадентствующей» либеральной оппозиционной интеллигенции в конечном итоге обозначило два тупиковых для России сценария власти: этакратическое болото, с одной стороны, и меритократический хаос – с другой. Большевизм оказался где-то посередине.