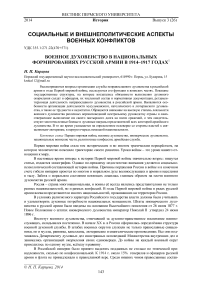Военное духовенство в национальных формированиях Русской армии в 1914-1917 годах
Автор: Карцева Н.П.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Социальные и внешнеполитические аспекты военных конфликтов
Статья в выпуске: 3 (26), 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются вопросы организации службы неправославного духовенства в российской армии в годы Первой мировой войны, исследуются его функции в воинских частях. Показаны государственные структуры, на которые возлагались обязанности выполнения духовного окормления солдат и офицеров, их численный состав и нормативная документация, регламентирующая деятельность неправославного духовенства в российской армии. Выявляются особенности организации деятельности мусульманского, католического и лютеранского духовенства, а также ее трудности и недостатки. Обращается внимание на высокую степень лояльности военного духовенства различных вероисповеданий центральному руководству страны и самоотверженное выполнение им своего пастырского долга на полях сражений, о чем свидетельствуют многочисленные боевые и духовные награды представителей всех категорий армейского духовенства. В то же время указывается на определенное недоверие со стороны властей к священникам-лютеранам, в первую очередь немецкой национальности.
Первая мировая война, военное духовенство, иноверческое духовенство, национальные воинские части, религиозные конфессии, армейская служба
Короткий адрес: https://sciup.org/147203561
IDR: 147203561 | УДК: 355.1:271.22(470+571)
Текст научной статьи Военное духовенство в национальных формированиях Русской армии в 1914-1917 годах
Первая мировая война стала тем историческим и во многом трагическим перекрёстком, на котором человечество поменяло траекторию своего развития. Уроки войны – это уроки нашего отношения к миру.
В настоящее время интерес к истории Первой мировой войны значительно возрос: пишутся статьи, издаются монографии. Однако по-прежнему недостаточно внимания уделяется социальнопсихологической составляющей истории войны. Причины поражения России в войне и в конечном счете гибели империи кроются во многом в моральном духе военнослужащих в армии и населения в тылу. Забота о моральном состоянии воюющих ложилась главным образом на плечи военного духовенства русской армии.
Россия – страна многонациональная, и воины её всегда являлись представителями не только разных национальностей, но и разных конфессий. В годы Первой мировой войны в рядах русской армии воевали представители многих национальностей, проживавших на территории России.
В условиях религиозного характера Российского государства власти должны были учитывать и удовлетворять духовные потребности национальных меньшинств. Штаты иноверческого духовенства в русской армии были введены на основании Высочайшего повеления от 26 июня 1877 г. Новое Положение о штатах иноверческого духовенства император Николай II утвердил 24 июня 1896 г.
Институт военного духовенства, отвечавший за духовно-нравственное воспитание военнослужащих, складывался постепенно. В начале XX в. в России оформилась определённая структура военной духовной службы. В штабах военных округов служили не только православные священники, но и муллы, раввины, капелланы, лютеранские и евангелические проповедники. Все они подчинялись Департаменту духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел и занимались организацией окормления своих единоверцев. До войны на каждый военный округ приходилось по одному мулле, ксёндзу и раввину.
В Российской империи было принято выделять подданных не столько по этнической принадлежности, сколько по конфессиональной. К 1914 г. около 15% генералов и офицеров русской армии и флота не принадлежали к православной вере. Среди нижних чинов православные состав-
ляли около 75%, католики – 9, мусульмане – 2, лютеране – 1,5, других вероисповеданий – 2,5. [ Ивашко , 2012, с.2].
Однако в условиях продолжающейся секуляризации общества основное внимание государство уделяло укреплению позиций православия. В 1911 г. по представлению Синода протопресвитером военного и морского духовенства был назначен профессор богословия Георгий Шавельский – талантливый организатор, военный священник, участник русско-японской войны, награждённый орденами Святого Георгия и Святого Владимира. По его инициативе буквально накануне войны, с 1 по 11 июля 1914 г., прошёл I Всероссийский съезд военного и морского духовенства, на котором была разработана и принята памятка-инструкция военному священнику [ Сенин , 1990, с.159,160].
В разгар Первой мировой войны, в 1915 г., штаб Верховного главнокомандования издал брошюру «Руководственные указания Духовенству действующей армии», в которой уточнялись его конкретные функции в период военных действий. В ней говорилось, что в боевых условиях священник был обязан ежедневно проповедовать на современные, затрагиваемые обстоятельствами времени темы, освещая с патриотической и религиозной точек зрения события общественной, государственной и военной жизни. При проведении бесед с личным составом воинских частей рекомендовалось учитывать степень грамотности солдат, предлагалось обращать внимание слушателей на обоснованность смысла и целей войны [РГВИА. Ф.2044. Л.34].
В обязанности военному священнику вменялся также сбор сведений о подвигах всех воинских чинов своей части. Кроме того, от священника требовалось и умение оказать первую медицинскую помощь. Всё это равным образом касалось и духовенства иных конфессий.
Перед духовными деятелями русской армии стояла также сложная задача – не допустить, чтобы религиозные различия переросли в противоречия. Во время войны сохранение межконфессионального мира было важным условием сильного морального духа армии. Полковые священники должны были предотвращать возникновение споров о вере в среде военнослужащих.
В циркуляре № 737 от 3 ноября 1914 г. протопресвитер Г.Шавельский, обращаясь к православному духовенству действующей армии, писал: «Усердно прошу духовенство действующей армии избегать по возможности всяких религиозных споров и обличений иных исповеданий, зорко следить, чтобы в полковые и госпитальные библиотеки не попадали брошюры и листы с резкими выражениями по адресу католичества, протестантства и других вероисповеданий, так как подобная литература может оскорблять их религиозное чувство и ожесточать их против православной церкви, а в воинских частях сеять пагубную для дела вражду. Подвизающееся на бранном поле духовенство имеет возможность подтверждать величие и правоту Православной Церкви не словом обличения, а делом христианского самоотверженного служения как православным, так и инославным, памятуя, что и последние проливают кровь за Веру, Царя и Отечество» [РГВИА. Ф.2044. Л.365]. Далее следовала подробная инструкция православным пастырям, касающаяся использования методов ведения душеспасительной работы среди инославных верующих. Протопресвитер предостерегал православных пасторов от применения таких приёмов в полемике, как насмешки, ругательства, издевательства, публичные споры. Не случайно неизвестно ни одного конфликта, возникшего в армии на религиозной почве.
Сохранившиеся документы позволяют судить о том, какое значение придавалось духовному состоянию воинов инославных вероисповеданий. Так, в донесении военного муллы при штабе 8-й армии Ашимова дежурному генералу штаба сообщалось, что «вследствие неимения в госпиталях штатных мулл погребение умерших нижних чинов магометанского вероисповедания производится не согласно требованию Шариата, что вызывает нравственное угнетение больных и раненых воинов-мусульман» [РГВИА. Ф.2134. Л.65]. Затем следовала просьба о назначении помощников муллы при госпиталях «для религиозного утешения больных и раненых». В полученном из штаба ответе предлагалось «в каждом пункте избрать помощников муллы из находящихся там нижних чинов» [РГВИА. Ф. 2134. Л. 66].
По существующему положению в случае, если в полку оказывалось более 500 человек иного вероисповедания, командир имел право пригласить для обслуживания их духовное лицо этого вероисповедания. А в рабочих отрядах, которые набирались в порядке так называемой реквизиции для работ на нужды обороны на национальных окраинах, мулла или лама назначался, если в них насчитывалось 2250 человек. В мае 1915 г. была введена должность муллы в Петроградском военном округе [ Капков , 2008, с. 43, 62].
На должности в регулярных национальных полках представители мусульманского духовенства назначались командованием и входили в штат. В иррегулярных национальных формированиях они избирались самими верующими и после этого утверждались командованием. Постепенно права и обязанности военных мулл уточнялись и расширялись.
В круг обязанностей мусульманского духовенства в армии и на флоте входили приведение новобранцев к присяге, совершение молений и погребального обряда Джиназы. При этом подчёркивалось, что обязательным условием при назначении мулл являлось свободное владение ими русским языком [РГВИА. Ф.2134. Л.43]. В годы войны число военных мулл в армии увеличилось, но потребность в них была ещё велика, о чём свидетельствует, например, обширная переписка по этому поводу, сохранившаяся в архивных материалах штаба 8-й армии Юго-Западного фронта [РГВИА. Ф.2134. Л.267].
Особенно щепетильно относилось командование частей действующей армии к вопросу об учреждении должностей лютеранских проповедников, несмотря на рост численности солдат-лютеран, главным образом немцев по происхождению. Так, несмотря на то, что в составе 8-й армии числилось 1769 солдат-лютеран, было признано, что «учреждение должности пастора при армии не вызывает необходимости» [РГВИА. Ф.2134. Л.139 ].
Уместно отметить, что одним из важных, но недостаточно изученных эпизодов истории Первой мировой войны явилась кампания против некоторых национальных меньшинств, так называемых «граждан вражеских государств», с которыми воевала Россия. В эту категорию в первую очередь входили этнические немцы, которые объявлялись опасными внутренними врагами и подвергались массовым высылкам, интернированию, конфискации собственности. Между тем к началу войны в ряду полных генералов русской армии немцы составляли 28,5%, генерал-лейтенантов – почти 20, генерал-майоров – 19 [ Ивашко , 2012, с. 2].
Однако подозрительность по отношению к немцам в русской армии была столь велика, что встречались случаи, когда лютеранских пасторов не допускали в районы боевых действий. Так, 23 октября 1916 г. из штаба Юго-Западного фронта было направлено по этому поводу разъяснительное письмо начальникам штабов 9-, 18-, 23-го армейских корпусов, 3-й Кавказской казачьей дивизии, Уссурийской конной дивизии. В нём, в частности, говорилось, что «отказ в допуске лютеранского пастора в районы боевых действий, видимо, объясняется его немецкой фамилией. Но Ян Янович Трейман не немец, а эстонец, вполне надёжен и просит допускать его не только в тыловые части, но и в действующую армию» [РГВИА. Ф.2134. Л.351].
Большое значение для повышения морального духа воинов инославных конфессий имели религиозные праздники, организация которых полностью ложилась на плечи духовенства.
Согласно Морскому уставу на русском флоте было предусмотрено, что в главные праздники мусульман и иудеев верующие, по возможности, освобождаются от службы и увольняются на берег. Это правило соблюдалось в мирное время, в период же военных действий всё зависело от участия в них корабля или воинской части. К уставам прилагались списки наиболее значимых религиозных праздников, не только христиан, мусульман и иудеев, но и буддистов и караимов.
Например, 24 сентября 1916 г. оренбургский муфтий просил разрешить празднование в мусульманских частях действующей армии торжественного мусульманского Курбан–байрама и проведение соответствующего ему богослужения. Командование дало разрешение, но с оговоркой: «в том случае, если не будет боёв» [РГВИА. Ф.2134. Л.340]. 14 декабря 1916 г. оренбургский муфтий обращается с просьбой «дать возможность воинским чинам магометанам 24 декабря в большой мусульманский праздник Мавлюди Наби совершить установленное богослужение и молебствие о здравии государя императора, августейшей семьи и даровании победы» [РГВИА. Ф.3588. Л. 744]. Все мусульманские части действующей армии получили поздравительную телеграмму от императора Николая II, в которой говорилось: «Благодарю… всех мусульман, собравшихся на торжественное богослужение по случаю праздника Рамазан Байрама, за молитвы и выражение верноподданнических чувств. Высоко ценю доблесть многочисленных мусульман, сражающихся в рядах нашей храброй армии. Николай» [РГВИА. Ф.3588. Л.634].
По мере возможностей отмечалось в армии и католическое Рождество, о чём свидетельствуют письма солдат-католиков. Об этом писал 25 декабря 1914 г. родным в литовскую деревню Боля-ны Ковенского уезда рядовой 14-го Кавказского стрелкового полка Доминик Азловский: «Для нас нет костёла и ксёндза, но мы получили сегодня по 12 конфет и 4 пирожка, а остальная еда как обыкновенно» [ГАРФ, Ф. 102, Л.18]. Но уже в письме от 13 марта 1915 г. читаем: «Слава Богу, теперь пойдём на войну без страха. 9 марта приехал наш ксёндз и пробыл 4 дня. Все католики шли к исповеди и молились в нашем маленьком костёле» [ГАРФ. Ф. 102. Л.66].
Следует выделить деятельность в этот период Армянской апостольской церкви, которая ещё накануне войны стремилась во всём поддерживать российское правительство. Штатная должность армяно-грегорианского военного священника с причетником была установлена в Кавказском военном округе ещё в 1903 г. С началом войны на освободительную миссию России надеялись и армяне, живущие на территории Турции. Армянское духовенство в лице каталикоса всех армян Геворка V (Суреняна) и епископа Месропа (Тер-Мовсесяна) фактически инициировало создание армянских воинских формирований [ Степанянц , 2008, с.121]. С их благословения создавались армянские добровольческие дружины в составе Кавказской армии. Армянское духовенство организовало сбор пожертвований на создание добровольческих дружин, всячески опекало их, было в курсе их военных действий и передвижений.
В первые же дни войны синод Армянской апостольской церкви обратился в Главный штаб армии и Главный штаб Кавказской армии с просьбой о принятии в войсковые части действующих армий армянских священников для удовлетворения духовных нужд призванных на военную службу армян григорианского вероисповедания. Просьба была удовлетворена, и многие армянские священники изъявили добровольное желание отправиться на фронт [ Степанянц , 2008, с. 127]. Так, при канцелярии Главного начальника снабжений армии Юго-Западного фронта находился армяногригорианской священник Мартирос Затикянц, который ездил по частям, где служили армяне. В своём рапорте от 26 мая 1916 г. он писал: «25 числа сего месяца в Высокоторжественный день рождения Ея Императорского Величества Благочестивейшей Государыни Императрицы Александры Фёдоровны… имел счастливейшую возможность в районе победного наступления доблестной 14-й дивизии, на ратном поле, сплошь усеянном трупами, перед доблестным войском 8-ого армейского корпуса коленопреклонённо отслужить первые благодарственные Молебны и вознести ко всевышнему Царю Царей горячие молитвы об окончательном сокрушении всех сил коварных врагов Матушки Руси» [РГВИА. Ф.2134, Л.252].
Высокую оценку деятельности священнослужителей в годы Первой мировой войны дал в 1915 г. Верховный главнокомандующий великий князь Николай Романов: «Мы в ноги должны поклониться военному духовенству за его великолепную работу в армии» [ Бондаренко , 2013, с.335].
Большинство неправославного духовенства к началу войны не имело наград. В годы Первой мировой войны сформировался сложный порядок награждения военных священнослужителей вообще и в особенности духовенства неправославных конфессий. Католические и протестантские священники, как и православные, награждались наперстными крестами, орденами, золотыми и серебряными часами, в том числе украшениями, перстнями и табакерками Кабинета Его Императорского Величества. Пасторы также жаловались.
Католические священники были введены во всех польских частях русской армии. Нередко, как и сами воины, они показывали примеры героизма, за что получали награды. Так, были «награждены орденами Святой Анны и Святого Станислава III степени капеллан 1-й стрелковой бригады С. Сычевский и капеллан польской бригады В. Миколайтысь», а также другие католические и лютеранские священники [ Подпрятов , 2010, с. 106].
Мусульманским священникам вручались медали «За усердие» и присуждались звания личного или потомственного Почётного гражданина. В годы войны были нередки случаи, когда мусульманское духовенство награждалось орденами Святого Станислава III степени и Святой Анны III степени [ Капков , 2008, с.102].
Так, в 1916 г. орденом Святого Станислава III степени с мечами и бантом был награждён полковой мулла Ингушского конного полка Хаджи-Таубот Горбаков за то, что лично повёл в атаку на австрийскую пехоту всадников своего полка. В 1915 г. орден Святой Анны II степени получил буддист, бакша-лама калмык М. Барманжинов. Буддистское ламаистское духовенство окормляло чинов Донского казачьего войска из калмыков [ Капков , 2008, с.46].
Военный мулла Черкесского конного полка М. Набоков за боевые заслуги в октябре 1916 г. был награждён орденом Святой Анны, а в январе 1917 г. – орденом Святого Станислава. Мулле Кабардинского полка А. Шогенову за храбрость в бою у деревни Шупарки летом 1915 г. был вручен Георгиевский крест IV степени. Получали ордена и другие мусульманские священники: мулла
Крымского конного полка С.Э.Шааб-Челеби (Челебиев), военный мулла штаба Кавказской армии Н.Терегулов, штатный мулла войск Приамурского военного округа Г.Мурдиков и др. [РГИА. Ф.821. Л.67, 74].
Военные священники всех конфессий внесли огромный вклад в укрепление боевого духа армии и флота в годы Первой мировой войны, словом и делом поддерживая своих духовных чад. Богатый опыт военного духовенства русской армии учит необходимости воспитывать в обществе и армии религиозную терпимость, соблюдать принцип свободы вероисповеданий.
Тем не менее самоотверженная работа военного духовенства разных конфессий на могла спасти армию от разложения, к которому она пришла к 1917 г. Наблюдавшееся в российском обществе откровенное равнодушие к религии не позволило получить ожидаемых результатов от деятельности военного духовенства. Как отмечали впоследствии многие представители русской эмиграции, наряду с политическими и экономическими причинами бедствий России в 1917 г. следует назвать и кризис русской религиозности.
Список литературы Военное духовенство в национальных формированиях Русской армии в 1914-1917 годах
- Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф.821. Оп.11. Д.91
- Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 2044. Оп.1. Д.6; Ф.2134. Оп.2. Д.267; Ф.3588. Оп. 1. Д.134
- Бондаренко В.В. Герои Первой мировой. М., 2013
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 102. Оп. 265. Д. 1173
- Ивашко М.И. К истории веротерпимости в армии и на флоте//Военно-промышленный курьер. 2012. №42. URL:http://vpk-news.ru/articles/12858/(дата обращения: 24.02.2014)
- Капков К.Г. Памятная книга российского военного и морского духовенства XIX -начала XX веков: справочные материалы. М., 2008
- Подпрятов Н.В. Деятельность органов власти по организации службы неправославного духовенства в русской армии//Власть. 2010. № 9
- Сенин А. С. Армейское духовенство в России в Первой мировой войне//Вопр. истории. 1990. №10
- Степанянц С. М. Участие армянского духовенства в Первой мировой войне на стороне России//Известия РГПУ им. А. И.Герцена. СПб., 2008. №12 (81)