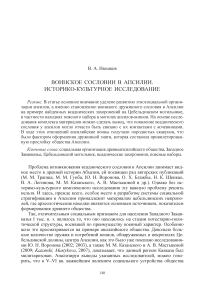Воинское сословие в Апсилии. Историко-культурное исследование
Автор: Нюшков В.А.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 234, 2014 года.
Бесплатный доступ
В этой статье основное внимание уделяется развитию этносоциальной организации Апсилов и, в частности, появлению военного имущества в Апсилии, основанного на погребениях всадников, обнаруженных в погребении Цебелды, в частности находках из беллетров в могилах Апсилийских воинов. Исходя из исследования этого диапазона материалов, можно сделать вывод, что появление этого состояния монстров-воинов частично могло быть связано с их контактами с кочевниками. В ходе этих отношений апсилийские воины приобрели чистокровных коней, что привело, среди прочего, к формированию военной элиты, составляющей привилегированный слой в обществе Апсилии.
Социальная организация древнеапсилийского общества, западное закавказье, цебельдинский могильник, всаднические захоронения, поясные наборы
Короткий адрес: https://sciup.org/14328625
IDR: 14328625
Текст научной статьи Воинское сословие в Апсилии. Историко-культурное исследование
Проблема возникновения всаднического сословия в Апсилии занимает видное место в древней истории Абхазии, ей посвящен ряд авторских публикаций (М. М. Трапша, М. М. Гунба, Ю. Н. Воронова, О. Х. Бгажбы, Н. К. Шенкао, В. А. Логинова, М. М. Казанского, А. В. Мастыковой и др.). Однако без историко-культурного комплексного исследования эту важную проблему решить нельзя. И здесь, прежде всего, особое место в разработке системы социальной стратификации в Апсилии принадлежит материалам цебельдинских некрополей, где археологические находки являются основным источником, показателем формирования древнего общества.
Так, отличительным социальным признаком для населения Западного Закавказья I тыс. н. э. являлось то, что оно находилось на стадии потестарно-поли-тической структуры, носившей по преимуществу военный характер. Особенно ясно это просматривается на примере апсилийского общества. Довольно большое количество оружия и погребений воинов, обнаруженных в некрополях Це-бельдинской долины, центра Апсилии, как это было уже показано исследованиями Ю. Н. Воронова (2002; 2003), а также М. М. Казанского и А. В. Мастыковой (2009; Kazanski, Mastykova, 2007), доказывает, что данный регион Кавказа был милитаризован. Анализируя выводы указанных исследователей, можно говорить, что к V–VI вв. важнейшим явлением социального устройства общества в Апсилии становится выделение профессионального военного слоя, т. е. формирование военной аристократии. Вместе с тем в основной все же массе апсилы не были воинственно настроены к византийской цивилизации (были союзниками), сохраняя свою самобытность, свои традиции и т. д.
В то же время постоянное нахождение в сфере повышенного внимания со стороны имперской византийской администрации (в первую очередь, из-за ирано-византийских противоречий) вынуждало мужскую часть населения Ап-силии быть всегда наготове. О непростой сложившейся на то время ситуации может свидетельствовать возведенная в первой половине VI в. цепь опорных крепостей, составлявших одну оборонительную линию «Внутренний Кавказский лимес». Очевидно, что возникновение линии стало возможным благодаря взаимодействию как византийских властей, так и апсило-мисимианской аристократической верхушки, заинтересованных в контроле и защите горных перевалов, ведших с Северного Кавказа в Западное Закавказье, откуда через перевалы время от времени совершали свои набеги северокавказские кочевники (например, гунны). В этих условиях интересы Апсилии, принимавшей на себя начальный натиск, и Византии – главного объекта этих нашествий – совпадали. Размещение двух важнейших крепостей Цибилиума (Цабала) и Шапкы, возведенных инженерами императора Юстиниана I, указывает на активное участие апсилов в организации обороны своей страны. В переговорах основную роль из числа местного населения играли знатные люди из главенствующего рода, располагавшегося на горе Шапкы ( Воронов , 2009. С. 560); власть начинает приобретать централизованный характер.
Уже с начала I тыс. н. э. в военной среде апсилов активно идет процесс формирования нового типа военной организации управления – «военной иерархии». Согласно стадии III/5–8 (380/400–440/450 гг.), по хронологической квалификации М. М. Казанского и А. В. Мастыковой (2008. С. 173–176; 2013. С. 58), с фиксацией захоронений военных предводителей, воинов-всадников, воинских погребальных ритуалов, элементов «дружинной» материальной культуры довольно отчетливо отмечаются признаки указанного типа управления. Во главе социума стоит военный предводитель (князь) и верная ему дружина, состоящая, судя по выявленному археологическому цебельдинскому материалу, из могил апсилов, знатных воинов, представлявших, по всей видимости, всадническое сословие. Погребения с захоронениями коней воинских предводителей некрополей Шапкы и Цебельды, отличавшиеся богатым набором оружия, куда входили меч, кинжал или скрамасакс, и/или щит с металлическими элементами ( Казанский, Мастыкова , 2009. С. 152; Мастыкова , 2008а), также подтверждают наличие слоя военной иерархии в Апсилии, что должно было отражаться и на самом типе оружия.
Наиболее типичные боевые предметы указанного выше периода происходят из могильников цебельдинской культуры Апсилии (рис. 1). Было найдено весьма разнообразное и высокоусовершенствованное оружие. Сам комплекс вооружения состоял из защитных средств и наступательных видов оружия (мечи, кинжалы, копья, топоры, ножи и т. д.) наряду со стандартным набором оружия (копья, топоры, стрелы), встречающимся в воинских могилах, сопровождавшихся захоронениями коней. В свою очередь, можно говорить, что существовала

Рис. 1. Карта Апсилии и ее центра – Цебельдинской долины
1 – крепость Цибилиум (Цабал); 2 – могилы апсилов определенная иерархия в погребениях апсилов и по набору оружия (Казанский, Мастыкова, 2009; Мастыкова, Казанский, 2009). Основными родами войск, надо полагать, были пехота и конница.
Поэтому особый интерес не могут не вызывать конские захоронения, которые были обнаружены на месте исторического расселения апсилов (в Цебель-динской долине). В этом плане для сравнительного анализа интересны могильники, синхронные по времени Цебельдинскому могильнику: Дюрсо близ Новороссийска и Андреевская щель (Анапский район). Так, на раннесредневековом могильнике Дюрсо (без сомнения, он вместе с Цебельдинским принадлежит к ряду крупнейших могильников Восточного Причерноморья I тыс. н. э.) было найдено 16 конских захоронений ( Дмитриев , 1979) и одно на могильнике Андреевская щель ( Новичихин , 2008). Обнаруженные конские захоронения с воинским ассортиментом в основном, вероятно, можно классифицировать как воинские кенотафы с захоронением боевого коня.
В этой связи следует отметить, что воинский кенотаф с захоронением коня, так же как на могильниках Дюрсо и Андреевская щель, частично фиксируется и на Цебельдинском могильнике, локализуемом в Центральной Апсилии. Это конское погребение 55 (Цибилиум-1), в котором оружие отсутствовало. Конский костяк лежал на правом боку, головой на запад, ногами на юг. Судя по положению костей ног, не исключено, что их перед захоронением предварительно связывали
( Воронов , 2003. С. 21). Такое положение костей ног коня может свидетельствовать, что он был принесен в жертву еще живым. Об этом говорит и инвентарь, который включал железные удила с псалиями и бронзовое кольцо, находившееся среди зубов. Дата комплекса – V–VI вв. н. э. (Там же. С. 21).
Следующее конское захоронение 455 некрополя Цибилиум-10 на первый взгляд может показаться тоже кенотафом. Здесь также ноги коня при захоронении, вероятно, были связаны, уздечный набор отсутствовал. Однако данное захоронение коня все же отличается от предыдущего, поскольку вместе с ним обнаружены: кремационное погребение воина 456 с сопровождающим набором военного оружия – железным мечом, боевым топором, тремя железными ножами, а также женское кремационное погребение 457. Дата всего комплекса – III в. н. э. (Там же. С. 86, 87). Скорее всего, воинское погребение 456 и конское 455 можно объединить в одно всадническое.
В этом случае по своему характеру оно близко погребениям 376 и 377 могильника Цибилиум-1, где в большой погребальной яме площадью 2 х 1,6 м при глубине до 1,5 м, на возвышенной части дна лежал скелет коня, захороненного в скачущей позе, с отдельным уздечным комплектом. В западной части ямы, в продольном углублении был захоронен воин (ориентированный головой на юг) с богатым набором вещей, в том числе оружием: железный нож, рукоять которого была украшена сердоликом в бронзовой оправе, обломок второго железного ножа, два железных лезвия, скопление железных наконечников стрел; снаружи у правого колена найдена бронзовая выгнутая пластинка сердцевидной формы, которая, видимо, служила наконечником колчана. Дата комплекса – V в. н. э. (Там же. С. 72, 73).
К всадническому захоронению относится, судя по всему, и ингумацион-ное захоронение 313 могильника Цибилиум-2, где погребенный был положен на правый бок, головой на северо-запад, его череп почти соприкасался с костями задних ног коня с фрагментарно сохранившимся уздечным и седельным комплектом. Из оружия было обнаружено: железный наконечник копья, маленький и большой железные ножи. А также были найдены бронзовые детали поясного набора: рамка, ременные наконечники, разнотипные бляшки, две пряжки. Дата комплекса – поздний VI в. н. э. (Там же. С. 62).
Между тем данное мужское захоронение 313 из некрополя Цибилиум-2, как считает И. Р. Ахмедов, не является всадническим, поскольку было совершено позже конского и не связано с ним. По мнению исследователя, «сбруйные прямоугольные пряжки, находившиеся на скелете коня, близки типам с хоботковидными язычками, более характерными для V в. Положение коня необычно для цебельдинских погребений, где в ингумациях скелет коня обычно лежит вдоль и сбоку от погребенного» ( Ахмедов , 2005. С. 244). Данного мнения придерживаются М. М. Казанский и А. В. Мастыкова, предположив также, что конское погребение не связано с мужским захоронением из-за позиции коня, необычной для цебельдинской культуры, и найденных удил, типичных для IV – первой половины V в. ( Казанский, Мастыкова , 2009. С. 151). Таким образом, выходит, что конское захоронение более раннее, чем мужское, и разница между ними составляет около ста лет. Вместе с тем данное захоронение, судя по расположению в одной погребальной яме воина и коня, является, на наш взгляд, еще одним всадническим.
Также всадническим можно считать и погребение 259 некрополя Цибили-ум-1. Оно представляет собой кремацию воина, помещенную в плохо обожженный пифос. Вне урны находился костяк сильно стянутого перед захоронением коня. В погребении были обнаружены железный топор, два наконечника копий, железный нож, а также бронзовая пряжка. Захоронение датируется IV в. н. э. ( Воронов , 2003. С. 52).
Следующее всадническое захоронение 383 Цибилиум-2 по своему характеру близко стоит к захоронению 259 Цибилиум-1, но с более богатым инвентарем (возможно, это был участок захоронения какой-то привилегированной группы – семьи?) ( Мастыкова , 2008а. С. 25; Мастыкова, Казанский , 2009). Датируется оно V в. н. э. и представляет собой кремацию воина в пифосе и втиснутого в узкую яму костяка коня, с которым связаны железные удила с псалиями, лежавшие на шейных позвонках у черепа, и железная пряжка. Оружие: железный наконечник копья, однолезвийный меч, топор, семь наконечников стрел и два железных ножа ( Воронов , 2003. С. 73).
Стоит остановиться еще на одном захоронении – это разрушенное ингума-ционное погребение 448 Цибилиум-8, которое, согласно Ю. Н. Воронову, можно классифицировать как воинское с конем. Датируется оно исследователем рубежом нашей эры. Следует заметить, что конский костяк не фиксируется. Из интересующего нас инвентаря в нем сохранились железный наконечник копья своеобразной конструкции и детали конской уздечки – железные удила с колесиковидными псалиями (Там же. С. 84). В то же время И. Р. Ахмедов данное погребение датирует второй половиной II – первой половиной III в. н. э., считая, что колесиковидные псалии по своим типологическим признакам близки к сарматским ( Ахмедов , 2005. С. 241).
Таким образом, в результате исследования некрополя Цибилиум (Цабал) с 1977 по 1986 г. в общей сложности было найдено 7 конских всаднических погребений. К этому числу следует отнести еще одно, судя по довольно богатому ассортименту оружия (два железных наконечника копий во фрагментах, железный топор, железный умбон, железный обоюдоострый меч с бронзовым перекрестием, железный однолезвийный меч), воинское элитное всадническое погребение ЦХ-4–5 Шапкынского могильника. Сам воин лежал на боку лицом к коню, слегка согнув ноги. Конский костяк был сильно поврежден при пахоте, уздечка не обнаружена ( Воронов, Юшин , 1973. С. 176). Само погребение из-за представленных в могиле двух типов мечей (раннего, по времени, обоюдоострого и позднего – однолезвийного), по Ю. Н. Воронову и В. А. Юшину, ограничивается пределами IV–VI вв. (Там же. С. 189).
Интерес представляет также погребение № 22, открытое в 1968 г. на це-бельдинском некрополе Апианча. Костяк покойника разрушен, с ним находился его конь. Вместе они были положены в глубокую яму: остов коня был опущен крупом вниз, на уровне конской груди помещен покойник в вытянутом положении. Оружейный инвентарь очень беден: фрагменты железного ножа, два фрагмента лезвия (Гунба, 1978. С. 30–33). В число предметов конского убора входят удила, псалии, уздечный набор, колокольчик. Дата погребения – IV–V вв. н. э. (Там же. С. 83). Данное захоронение, видимо, можно также поставить в один ряд со всадническими, а его автохтонный характер подчеркивается здесь же найденной керамикой, типичной для цебельдинской культуры. Те же автохтонные черты заметны и в следующем всадническом погребении, обнаруженном в Сухуми; это захоронение коня с его хозяином, которое датируется приблизительно VI в. н. э. (Трапш, 1971. С. 123; 1975. С. 65).
В результате археологических раскопок в окрестностях Цебельды были выявлены пять воинских захоронений, относящихся к V в. н. э.: четыре из них обнаружены в некрополе Абгыдзраху (погребения № 1, 23, 29, 34) и одно – найдено в Ахьацараху (погребение № 3). В погребении № 29 некрополя Абгыдзраху вместе с костяком лошади был найден костяк жеребенка. Здесь же был найден бронзовый колокольчик. Все конские костяки сопровождались уздечными и седельными наборами (кольцами, пряжками и т. д.), удилами и псалиями (Там же. С. 122).
Подробно проанализировав захоронения, М. М. Трапш предположил, что апсилы и абасги в III–IV вв. н. э. «широко использовали лошадь в хозяйстве, а также конницу в военных действиях» (Там же. С. 161). Основанием для такого утверждения стали найденные археологом двулезвийные мечи и наконечники копий, которые, по его наблюдению, в III–IV вв. н. э. являлись основным оружием древнеабхазских этносов. Именно «апсило-абасгские всадники могли рубиться мечами на полном скаку», «цебельдинская конница в III–IV вв. н. э. имела на вооружении как длинный, так и короткий меч или кинжал»; она же, т. е. «конница эта, наряду с пехотой являлась основным родом войск Цебель-динской общины в III–IV вв. н. э.» (Там же. С. 147). Принимая во внимание столь серьезный вывод, мы всё же должны заметить, что для этого времени (римско-византийская эпоха) появление в Апсилии военной конницы очень сомнительно из-за практического отсутствия всаднических могил. А само применение всадниками (как видно на примере нескольких всаднических захоронений) не двулезвийного типа мечей римского времени, а более поздних однолезвийных указывает на то, что такая конница могла появиться ближе к середине V в. н. э. Это, в свою очередь, подтверждает археологический материал, найденный в Цебельде. Так, в захоронениях пока найдено около пятидесяти длинных и коротких мечей. К самым ранним из них можно отнести 5 экземпляров III–IV вв., исполненных виртуозной техникой сварочного дамаска (дамасская сталь). Судя по анализам сделанных в Абхазии находок, «каждый второй древнеабхазский воин был вооружен подобным мечом» ( Бгажба, Лакоба , 2007. С. 80, 81), что может говорить о военизации мужской части апсилийского общества в позднеантичную эпоху.
Поэтому мы можем только предполагать, что здесь, в Центральной Апсилии, с середины V в. н. э. имелись специальные подвижные отряды как пеших, так и конных меченосцев; были, видимо, и конные лучники, панцирные кавалеристы, ибо имелось свойственное им оружие ( Амичба , 2002. С. 123), как, например, у конного войска в Предкавказье, где вооружение конницы в IV–VII вв. состояло из лука со стрелами, длинного меча, пластинчатого доспеха, кольчуги ( Каминский, Каминская-Цокур , 1997. С. 67).
Между тем наличие на могильниках только конских погребений (кенотаф-ного типа) могло бы, на наш взгляд, указывать на значительное присутствие всаднических захоронений и в самой Цебельдинской долине. Все это говорит о том, что конь мог быть похоронен позже своего хозяина и по каким-то причинам не в одной с ним могильной яме. Примером этому, возможно, мог бы служить, в частности, отмеченный выше могильник Дюрсо с конскими погребениями. Из 16 конских погребений означенного могильника А. В. Дмитриев выделил в качестве всаднических три захоронения (300, 479, 500), увязав их с конскими погребениями – 4, 9, 10 (1979. С. 222–226). Так, в погребении 300, располагавшемся в 11 м к северо-востоку от конского захоронения 4, у правой руки погребенного лежал длинный меч, преломленный при захоронении на три части; в погребении 479, обнаруженном в 2,5 м к югу от конского захоронения 9, были найдены меч и два кинжала; в парном, мужское и женское, погребении 500, находившемся в 3,5 м к северу от конского захоронения 10, при мужском скелете обнаружен кинжал с вырезами у рукояти (Там же).
Правда, исследователь выражает некоторое сомнение, считая, что нет «полной уверенности, что погребения именно данных воинов связаны с вышеописанными захоронениями лошадей, имеющими металлические детали облицовки седел». Вместе с тем А. В. Дмитриев все же полагает, что «во всех трех случаях существует ряд совпадений» (1979. С. 228). Лошадь находится всегда слева от предполагаемого всадника, ориентировка всадников и лошадей совпадает, а наличие богатого инвентаря, по мнению исследователя, означает принадлежность всадников к воинской аристократии (Там же. С. 228, 229). В данном случае, в частности, И. Р. Ахмедов видит на некрополе Дюрсо параллель с представленными в Цебельде погребениями лошадей, полагая, что обычай погребения боевых коней на могильнике Дюрсо явно имел такое же значение, что и в Цебельдинской долине ( Ахмедов , 2005. С. 250). Также хотелось бы отметить, что конские погребения на могильнике Дюрсо могут представлять большой интерес и для изучения контактов Понтийского региона со Средним Дунаем в эпоху Великого переселения народов ( Мастыкова , 2009. С. 127).
Вместе с тем, согласно М. М. Трапшу, «обычай захоронения верхового коня вместе с хозяином имеет глубокую традицию в Абхазии» ( Трапш , 1975. С. 65), но, вероятно, он часто не соблюдался из-за разновременности смерти хозяина и коня. Надо отметить, что на территории исторической Апсилии было исследовано около 100 воинских захоронений V–VII вв. ( Воронов , 2002. С. 340). Основу же апсилийского войска, судя по всему, составляла пехота ( Воронов, Шенкао , 1982. С. 134), игравшая, как и в Предкавказье в ранневизантийскую эпоху, видимо, вспомогательную роль, также вооруженная короткими кинжалами, луком и копьем ( Каминский, Каминская-Цокур , 1997. С. 67) и боевыми метательными топорами наряду с «цебельдинскими».
Сами по себе «цебельдинские» топоры использовались как универсальное оружие в военных целях, реже – в хозяйственной деятельности. Внешнее и функциональное соответствие апсилийских и франкских топоров той же эпохи, а также распространение сходных форм топоров вдоль границ Римской империи от Кавказа до Бельгии дает возможность предполагать в основе формирования цебельдинских топоров те же закономерности, которые обусловили общность и многих других изделий позднеримского и ранневизантийского мира (умбоны для щитов, поясные наборы, украшения, уздечки и др.) ( Бгажба, Воронов , 1980. С. 16).
Следует отметить, что наличие воинского (снаряженного) коня, по всей видимости, означало некий эталон привилегированности его владельца. Конница составляла значительную часть войска, включая высокогорный регион. О ее наличии у горного населения Абхазии – мисимиан (соседи, близкие по образу жизни апсилам) – свидетельствует византийский историк VI в. Агафий Миринейский. Подробно описывая битву византийцев и мисимиан в районе высокогорной крепости Тцахар, Агафий отметил существование у мисимиан шестисот пеших и конных воинов (Aгафий..., 1953. Кн. 4, 16). Подобные конные отряды, формировавшиеся из числа местного мужского населения, видимо, существовали и в Северо-Западной Абхазии, в местах исторического расселения санигов (современная территория Сочи-Адлерского района). Свидетельством этому являются обнаруженные конские захоронения, части седельной сбруи и т. д., а также найденные в последнее время в Сочинском районе, в окрестностях Красной Поляны, ранневизантийские предметы, которые находят ближайшие соответствия в погребальных комплексах цебельдинской культуры: мечи, копья, топоры, удила, пряжки (IV–V вв.). Можно предполагать, что в это время кавалерия у санигов играла существенную роль в военном деле ( Гавритухин, Пьянков , 2003. С. 190). Очевидно, всадничество как часть элитного военного сообщества локально не ограничивалось одним Северо-Западным регионом, затрагивая и другие территории Западного Кавказа, где проживали древнеабхазские «народы» (апсилы, абасги, саниги), испытавшие влияние позднеантичной цивилизации. Сам конь формировал облик мужчины как воина-дружинника.
Появление захоронений с конями у апсилов считается одним из археологических свидетельств проявления воинских погребальных обрядов, повсеместно распространенных на Южном Кавказе еще в эпоху поздней бронзы и раннего железа. Неслучайно в литературе укрепилась точка зрения, что если индоиранцы познакомили Азию с конем, то иранцы – со всадничеством ( Ковалевская , 1977. С. 61). «В самом начале I тысячелетия до н. э. погребения человека с конем распространяются в Закавказье довольно широко и, судя по могильным сооружениям и инвентарю, не имеют исключительной культурной привязки, что, возможно, объясняется широкой возрастающей ролью всадничества» ( Погребова , 2006. С. 76). Возможно, поэтому конские захоронения появляются у апсилов как отражение престижных культов, связанных с воинской элитой ( Казанский, Мастыкова , 2009. С. 152).
Представляется вероятным, что сам элемент всадничества у апсилов, связанный и с поставкой выносливых и резвых скакунов, появился из-за их активных контактов с кочевниками (гуннами и, прежде всего, с аланами). Как известно, после ухода гуннов аланы, продвигаясь на юг, в сторону Центрального Предкавказья, в конце IV в. н. э. постепенно переходят к оседлости. «Причина была одна: кочевать по кавказским предгорьям было неудобно» (Гудаков, 2007. С. 54). В результате завязываются тесные связи с местными аборигенными этносами (абасгами, апсилами, лазами и др.). Поскольку войска аланов практически полностью состояли из всадников на всем протяжении их истории, появление коней в Апсилии среди элитной части населения вполне может быть объяснимо. Материалы всаднических захоронений апсилов середины I тыс. н. э. указывают, что скаковые и боевые лошади в значительном количестве закупались и перегонялись сюда с Северного Кавказа. Вместе с тем будет несправедливо не отметить, что (судя по размерам предметов седельного и уздечного наборов, в первую очередь – удил, найденных в цебельдинских погребениях) местные апсилы разводили различные породы лошадей (Трапш, 1971. С. 156).
Так, следуя Нартскому эпосу, можно отметить, что на Кавказе существовали по крайней мере две породы лошадей – арашь и хуаре, небольшие, удобные для передвижения в горах, сильные и выносливые ( Ковалевская , 1977. С. 130). Надо полагать, что из этих же пород лошадей состояла и свита жениха Хании (дочери Аирговых) в количестве ста вооруженных всадников, согласно данным указанного эпоса ( Салакая , 2008. С. 65).
В то же время конечно же нужна была такая порода лошадей, которая в условиях сложного горного пересеченного рельефа могла бы откликаться на малейшие движения колен всадника, что было очень важно для последнего, учитывая тяжесть его вооружения и отсутствие стремян. Надо полагать, что местные породы лошадей в Абхазии, разводившиеся в античную и средневековую эпохи, отличавшиеся своей выносливостью и приспособленностью к условиям сильно пересеченных и гористых местностей, все же уступали «аланским коням». «Аланские кони» – новая порода лошадей, выведенная в эпоху Римской империи, отличалась своей рослостью и выносливостью, способной выдержать вес тяжеловооруженного всадника. Неслучайно, что в V в. Западной Римской империи наряду с аланским воинским и конным снаряжением и оружием особенно ценились аланские кони ( Ковалевская , 2005. С. 88).
Так, например, при исследовании курганов могильника Брут 1 (Северная Осетия) выявлены псалии, по отдельным признакам аналогичные обнаруженным в могилах апсилов в эпоху Великого переселения народов ( Габуев, Хохлова , 2012. С. 24). Тщательное изучение конского убора позволяет говорить, что в конце V в. в Цебельде использовалась узда понтийских и европейских стилей ( Ахмедов , 2005. С. 250), что вполне логично, учитывая аналогию и близость образцов конской узды с образцами Восточной Европы и Северного Кавказа. Это позволяет говорить, что «коней древние цебельдинцы традиционно должны были закупать на Северном Кавказе, откуда в Абхазию проникали и соответствующие формы уздечки» ( Воронов, Шенкао , 1982. С. 136).
Археологические данные фиксируют нахождение аланского элемента в Колхиде, в частности в Цебельдинской долине. Там, как отмечают Ю. Н. Воронов и О. Х. Бгажба, найдено около десятка характерных северокавказских лощеных кружек, главным образом, в женских захоронениях ( Воронов, Бгажба , 2008. С. 373). Существуют и другие, более ранние находки, например железные мечи с кольцевидным навершием, трехлопастные наконечники стрел. Это может говорить о наличии сармато-аланов в составе апсилийских и римско-византийских подразделений в Колхиде, а также (что не исключено) о наличии торговых и брачных связей ( Бгажба, Лакоба , 2007. С. 137). Присутствие аланов в южных регионах Кавказа также документируется и ранневизантийскими источниками (Прокопий Кесарийский, Агафий Миринейский, Менандр, Феофан Хронограф и др.).
Таким образом, мы не можем отрицать имевшуюся инфильтрацию аланского населения на территорию Западного Закавказья и снабжение верхушечной части местного населения конями, перегонявшимися с Северного Кавказа, останки которых засвидетельствованы на Цебельдинских могильниках (т. н. всаднические захоронения). По существующим археологическим признакам, определяющим дружинно-всадническое сословие, а именно: 1) вооружение, 2) снаряжение всадника, 3) снаряжение, сопровождающее захоронение боевых коней (упряжь, шпоры, плети и т. д.) (Армарчук, 2008. С. 788), можно полагать, что в социальной структуре Апсилии существовала особая страта всадников, составлявших передовую привилегированную часть апсилийско-го ополчения. Судя по обнаруженным в цебельдинских погребениях деталям бронзовой обоймы от уздечки, части седла, железных подпружных пряжек, железных удил с псалиями, хорошо представленным в материалах Северного Кавказа (середина I тыс. н. э.), и по конской сбруе, также имевшей северокавказский характер, поставка скакунов совершалась путем регулярного перегона с Северного Кавказа, пополняя тем самым конские ресурсы Апсилии «за счет внедрения в местную дружинную знать северокавказских всадников» (Бгаж-ба, Воронов, 1987. С. 72), по большей части аланских.
Здесь же также хотелось бы остановиться на одной категории погребального инвентаря – поясном наборе (не вдаваясь в подробное его исследование, так как это самостоятельная тема), поскольку его встречаемость на Цебель-динском некрополе довольно высока и он является атрибутом византийской воинской моды, а наиболее богатые экземпляры – и показателем социальной структуры местного общества. К таким, прежде всего, относятся поясные гарнитуры «геральдического» стиля, обнаруженные в захоронениях 279, 313, 314, 318, 325 могильника Цибилиум-2 ( Воронов , 2003), состоявшие из серебряных или бронзовых пряжек, накладок и наконечников ремней и т. д. Наиболее же яркие образцы представлены в погребениях 279 и 313, которые вполне можно выделить как воинские элитные; последнее, 313, еще является и всадническим. Погребения с «геральдическими» гарнитурами могильника Цибилиум-2 отличаются от других мужских могил более богатым инвентарем и, возможно, могли принадлежать знатным воинам ( Казанский, Мастыкова , 2008. С. 177). Об этом, в частности, могут свидетельствовать и материалы аланского могильника Едыс, открытого в верховьях реки Большой Лиахвы (Южная Осетия). Обнаруженные здесь предметы (пояса и поясные наборы), как считает Р. Г. Дзаттиаты, принадлежали воину, всаднику-дружиннику (1995. С. 122).
Надо отметить, что последней Цебельдинской археологической экспедицией 1977–1986 гг. было выявлено до 12 поясных наборов, а пряжек – 222. Концентрация гарнитур «геральдического» стиля на некрополе Цибилиум-2 может свидетельствовать «о привилегированной позиции группы, которой это кладбище принадлежало» ( Казанский, Мастыкова , 2011. С. 110), а с учетом типологического разнообразия поясных наборов – и о сложности социального устройства древнеабхазского (апсилийского) общества. Что мы наблюдаем также и на примере древнемордовского общества, групп, которые находились в сфере влияния транскультурной «воинской» моды ( Зеленцова, Сапрыкина , 2013. С. 86).
Согласно В. Б. Ковалевской, пряжки и детали поясной гарнитуры геральдического типа на Северном Кавказе «надежно датируются VII в.», и их появление было связано с пребыванием византийской армии ( Ковалевская , 2005. С. 146). Что же касается региона Западного Закавказья – Апсилии, то тут поясная гарнитура
«геральдического» типа и «геральдические» пряжки датируются несколько более ранним временем – стадия IV/10–11 (530/550–640/670 гг.) ( Казанский, Мастыкова , 2008. С. 173–176; 2013. С. 61). Они становятся еще одним надежным индикатором оформившегося дружинного слоя (в том числе всаднического сословия), на который Византийской имперской администрацией была возложена ответственная задача – охранять здесь, в нагорной части Западного Закавказья, Кавказский внутренний лимес, более известный как Клисура, представлявший собой в VI в. линию оборонительных сооружений византийцев ( Воронов , 2006. С. 394). В этом случае, скорее всего, поясные наборы геральдического типа не «могли попасть в Цебельду с Северного Кавказа через Аланию» ( Воронов , 1975. С. 151). Здесь мы видим обратный процесс попадания – из Византии в Апсилию и далее в Аланию. Поясная гарнитура геральдического стиля на Северном Кавказе была, в частности, обнаружена в раннесредневековом катакомбном могильнике близ села Верхний Садон (Северная Осетия) ( Кадзаева , 2008. С. 822), а в могиле 10 могильника Лермонтовская Скала-2 (Кисловодская котловина), принадлежавшей, видимо, местной знати, золотая поясная гарнитура сопровождалась парадным мечом V–VI вв. ( Мастыко-ва , 2008б. С. 151–152; Мастыкова, Казанский , 2009) и т. д.
Таким образом, можно говорить о том, что пояса, являвшиеся важным атрибутом военного престижного костюма, определяли социальный статус хозяина, его принадлежность к воинскому сословию, лишний раз указывая на то, что военно-политическая структура общества апсилов носила стратифицированный характер. Без сомнения, не каждый рядовой апсил-воин мог позволить себе такой пояс. Как известно, поясной набор указывал на заслуги и место его владельца в воинской иерархии. «Пояс стал своеобразным паспортом дружинника раннего Средневековья и свидетельством его места в дружинной иерархии» ( Агрба, Хотко , 2004. С. 33). Поясу придавалось особое значение как символу принадлежности его хозяина к воинскому сословию, т. е. к особой группе или касте, выполняющей определенные функции в древнем обществе ( Дзаттиаты , 1995. С. 108). Так, древнерусские дружинники «украшали себя поясами, которые, вероятно, символизировали воинскую доблесть» ( Драчук , 1977. С. 29). Таким образом, пояса, вероятно, являлись отличительным знаком принадлежности к военному (всадническо-дружинному) сословию.
Надо отметить, что сам процесс формирования дружинной знати у апсилов был обусловлен следующими факторами:
во-первых, тем, что, находясь в гуще исторических событий, общество ап-силов носило специальный военный характер (каждый мужчина – воин), особенно в период персо-византийских войн (VI в.) на территории Западного Закавказья;
во-вторых, инкорпорированием в систему Византийской обороны той прогрессивной части апсилов, которая стремилась интегрироваться в общекультурную систему ранневизантийского мира, а это, в свою очередь, формировало привилегированную (военизированную) прослойку в самом обществе, что должно было вести уже к изменению старых общинных условий жизни в Апсилии, т. е. к появлению раннесословных отношений;
в-третьих, прохождением трассы Великого Шелкового пути (например, для защиты караванов), так как интенсификация византийской торговли с восточно- причерноморским миром еще более усилила социальную стратификацию внутри апсилийского социума, чем в период Римской империи.
В заключение сделаем некоторые выводы:
-
1. Судя по полученным данным, преобладание в V в. н. э. воинских могил и максимального количества конского убора в некрополях Цебельды может указывать на расцвет всаднического привилегированного сословия в Апсилии, что соотносится со стадиями III/5–8 (380/400–440/450 гг.) и IV/9 (450–550 гг.) ( Kazanski, Mastykova , 2007. P. 55–60; Казанский, Мастыкова , 2008. С. 173–176; 2013. С. 58).
-
2. Появление всаднического сословия у апсилов стало возможным в результате довольно активных контактов с северокавказскими племенами, что, в свою очередь, оформило и саму, как таковую, дружинную знать, составлявшую привилегированную элитную прослойку общества в Апсилии.
-
3. Наличие конских могил с конским (или без) убором в некрополях Циби-лиума (Цабала) может свидетельствовать о всадническом типе данного захоронения, когда всадник, вероятно, был погребен в другом месте.
-
4. Общее количество всаднических погребений в Апсилии, по нашим подсчетам, достигает 14. Такое, на первый взгляд малое количество обнаруженных всаднических могил в Апсилии может быть объяснено на примере самбийско-натангийской культуры (Калиниградская обл.). В ее ареале «количество погребений всадников с конями для римского времени невелико, что позволяет рассматривать их как индикаторы социального положения умершего и его принадлежности к родовой верхушке» ( Скворцов , 2012. С. 36).
-
5. Обнаруженные поясные наборы «геральдического стиля» в Цебельдин-ском некрополе могут являться своего рода индикатором присутствия в Апси-лии элемента привилегированного сословия, в том числе и всаднического.
Список литературы Воинское сословие в Апсилии. Историко-культурное исследование
- Агафий о царствовании Юстиниана/Пер. и коммент. М.В. Левченко. М.; Л., 1953.
- Агрба Б.С., Хотко С.Х., 2004. «Островная» цивилизация Черкесии. Черты историко-культурной самобытности страны адыгов. Майкоп: Адыгея. 45 с.
- Амичба Г.А., 2002. Абхазия в эпоху раннего средневековья (Очерки по истории народного хозяйства и социально-экономических отношений в VI-X вв.). Сухум: АбИГИ АНА. 235 с.
- Армарчук Е.А., 2008. Археологические признаки дружинного сословия по материалам могильников Северо-Восточного Причерноморья//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. VIII. Крупновские чтения, 1971-2006/Гл. ред. А.Б. Белинский. М.; Ставрополь: Памятники исторической мысли: Наследие. С. 788, 789.
- Ахмедов И.Р., 2005. Конский убор из некрополей Цебельдинской долины (к истории сложения «понтийского» стиля узды в эпоху Великого переселения народов)//II Городцовские чтения: материалы науч. конф., посвящ. 100-летию деятельности В.А. Городцова в ГИМ. М.: Государственный исторический музей. С. 240-253. (Труды ГИМ; Вып. 145.)
- Бгажба О.Х., Воронов Ю.Н., 1980. Памятники села Герзеул. Сухуми: Алашара. 44 с.
- Бгажба О.Х., Воронов Ю.Н., 1987. Два всаднических захоронения апсилов из Цебельды//ТАГУ Т. 6. Сухуми: Алашара. С. 70-76.
- Бгажба О.Х., Лакоба С.З., 2007. История Абхазии с древнейших времен до наших дней. Сухум: АбИГИ АНА. 392 с.
- Воронов Ю.Н., 1975. Тайна Цебельдинской долины/Отв. ред. А.К. Амброз. М.: Наука. 160 с.
- Воронов Ю.Н., 2002. Археологические древности и памятники Абхазии (V-XIV вв.)//ПИФК. Т. XII. С. 334-362.
- Воронов Ю.Н., 2003. Могилы апсилов. Итоги исследований некрополя Цибилиум в 1977-1986 годах. Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН. 348 с.
- Воронов Ю.Н., 2006. Колхида на рубеже средневековья//Воронов Ю.Н. Научные труды: В 7 т. Т. 1/Гл. ред. О.X. Бгажба. Сухум: АбИГИ АНА. С. 294-429.
- Воронов Ю.Н., 2009. Главная крепость Апсилии//Воронов Ю.Н. Научные труды: В 7 т. Т. 2/Гл. ред. О.X. Бгажба. Сухум: АбИГИ АНА. С. 505-574.
- Воронов Ю.Н., Бгажба О.Х., 2008. Аланы в Колхиде (VI-VIII вв. н. э.)//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. VIII. Крупновские чтения, 1971-2006/Гл. ред. А.Б. Белинский. М.; Ставрополь: Памятники исторической мысли: Наследие. С. 373.
- Воронов Ю.Н., Шенкао Н.К., 1982. Вооружение воинов Абхазии IV-VII вв.//Древности эпохи Великого переселения народов V-VIII веков. Советско-венгерский сборник. М.: Наука. С. 121-165.
- Воронов Ю.А., Юшин В.А., 1973. Новые памятники цебельдинской культуры в Абхазии//СА. № 1. С. 171-191.
- Габуев Т.А., Хохлова О.С., 2012. Дробная датировка курганов могильника Брут 1 (Северная Осетия)//РА. № 4. С. 16-25.
- Гавритухин И.О., Пьянков А.В., 2003. Раннесредневековые древности побережья (IV-IX вв.)//Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья (IV-XIII вв.). М.: Наука. С. 186-206.
- Гудаков В.В., 2007. Северо-Западный Кавказ в системе межэтнических отношений с древнейших времен до 60-х годов XIX века. СПб.: СПб. ун-т. 565 с.
- Гунба М.М., 1978. Новые памятники цебельдинской культуры. Тбилиси: Мецниереба. 124 с.
- Дзаттиаты Р.Г., 1995. Пряжки и поясные наборы Едысского могильника (VI-VII вв. н. э.)//Аланы: история и культура. Т. III. Владикавказ: СОИГСИ. С. 107-123.
- Дмитриев А.В., 1979. Погребения всадников и боевых коней в могильнике эпохи переселения народов на р. Дюрсо близ Новороссийска//СА. № 4. С. 212-232.
- Драчук В.С., 1977. Рассказывает геральдика. М.: Наука. 256 с.
- Зеленцова О.В., Сапрыкина И.А., 2013. Критерии выделения статусных погребений на основе комплексного анализа поясных наборов VIII-XI вв.: по материалам мордовских могильников//КСИА. Вып. 229. С. 84-89.
- Кадзаева З.П., 2008. Раннесредневековый катакомбный могильник близ села Верхний Садон (РСО-Алания)//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. VIII. Крупновские чтения, 1971-2006/Гл. ред. А.Б. Белинский. М.; Ставрополь: Памятники исторической мысли: Наследие. С. 822.
- Казанский М.М., Мастыкова А.В., 2008. Эволюция некрополя Цибилиум (II-VII вв.)//Отражение цивилизационных процессов в археологических культурах Северного Кавказа и сопредельных территорий: XXV Крупновский чтения/Отв. ред. А.А. Туаллагов. Владикавказ: СОИГСИ. С. 173-178.
- Казанский М.М., Мастыкова А.В., 2009. Погребения коней в Абхазии в позднеримское время и в эпоху Великого переселения народов//Пятая кубанская археологическая конференция: материалы конференции/Отв. ред. И.И. Марченко. Краснодар: Кубанский гос. ун-т. С. 150-155.
- Казанский М.М., Мастыкова А.В., 2011. Федераты и империя: Эволюция некрополя Цибилиум (II-VII вв.)//Вторая Абхазская Междунар. археологическая конф. (8-12 ноября 2008 г.): материалы конференции/Отв. ред. А.Ю. Скаков. Сухум: АбИГИ АНА. С. 102-116.
- Казанский М.М., Мастыкова А.В., 2013. Хронология цебельдинской культуры (II-VII вв.)//Третья Абхазская Междунар. археологическая конф.: Проблемы древней и средневековой археологии Кавказа/Отв. ред. А.Ю. Скаков. Сухум: ИИМК РАН; АбИГИ АНА. С. 55-62.
- Каминский В.Н., Каминская-Цокур И.В., 1997. Вооружение племен Северного Кавказа в раннем средневековье//ИАА. Вып. 3. Армавир: Армавирский краеведческий музей. С. 61-69.
- Ковалевская В.Б., 1977. Конь и всадник. пути и судьбы. М.: Наука. 141 с.
- Ковалевская В.Б., 2005. Кавказ -скифы, сарматы, аланы I тыс. до н. э. -I тыс. н. э. М.; Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН. 398 с.
- Мастыкова А.В., 2008а. Федераты Восточной Римской империи на Черноморском побережье Кавказа и эволюция некрополя Цибилиум (II-VII вв.)//Научные Ведомости Белгородского гос. ун-та. Белгород: Белгородский гос. ун-т. № 17 (57). С. 26-32.
- Мастыкова А.В., 20086. «Варварские королевства» эпохи Великого переселения народов у алан Центрального Предкавказья//ПИФК. Вып. XXI. С. 149-159.
- Мастыкова А.В., 2009. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV -середине VI в. н. э. М.: ИА РАН. 502 с.
- Мастыкова А.В., Казанский М.М., 2009. Привилегированные погребения у федератов Восточной Римской империи на территории Абхазии (II-VII вв.)//Научные Ведомости Белгородского гос. университета. Белгород: Белгородский гос. ун-т. № 9 (64). С. 25-31.
- Новичихин А.М., 2008. Воинский кенотаф с захоронением боевого коня на средневековом могильнике Андреевская щель. Военная археология: сборник материалов семинара при ГИМе. Вып. 1/Отв. ред. О.В. Двуреченский. М.: Квадрига. С. 26-41.
- Погребова М.Н., 2006. Конские погребения Южного Кавказа эпохи поздней бронзы -раннего железа//Первая Абхазская Междунар. археологическая конф./Отв. ред. В.В. Бжания. Сухум: Алашарбага. С. 73-77.
- Салакая Ш.Х., 2008. Избранные труды: В 3 т. Т. I: Эпическое творчество абхазов/Отв. ред. З.Д. Джапуа. Сухум: АбИГИ АНА. 427 с.
- Скворцов К.Н., 2012. Погребения с конями I тыс. н. э. на Самбийском полуострове (могильник Аллейка 3)//РА. № 3. С. 36-49.
- Трапш М.М., 1971. Труды: В 4 т. Т. 3: Культура цебельдинских некрополей/Отв. ред. О.Д. Лордкипанидзе. Тбилиси: Мецниереба. 255 с.
- Трапш М.М., 1975. Материалы по археологии средневековой Абхазии/Отв. ред. А.Х. Халиков. Сухуми: Алашара. 228 с.
- Kazanski M., Mastykova A., 2007. Tsibilium. La nécropole apsile de Tsibilium (VIIe av. J.-C. -VIIe ap. J.-C.) (Abkhazie, Caucase). L’étude du site. Vol. 2. Oxford: John and Erica Hedges Ltd. 164 p. (British Archaeological Reports. International Series; S1721)