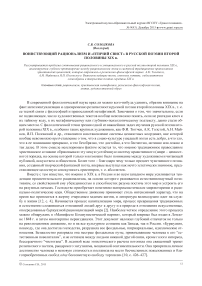Воинствующий рационализм и «птичий свист» в русской поэзии второй половины XIX в
Автор: Солодкова Светлана Владимировна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 9 (43), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема соотношения рационального и эмоционального в русской поэзии второй половины XIX в., анализируется глубокое противоречие между рационализмом эпохи и системой традиционных православных христианских ценностей, которое отразилось в религиозно-философской лирике А.К. Толстого, А.Н. Майкова и Я.П. Полонского. Выявлены ведущие темы, сквозные мотивы, эмблематичные словообразы в творчестве поэтов середины XIX в.
Рационализм, христианская метафизика, религиозно-философская поэзия, мотив, художественный образ
Короткий адрес: https://sciup.org/14822420
IDR: 14822420
Текст научной статьи Воинствующий рационализм и «птичий свист» в русской поэзии второй половины XIX в
Закономерно поэтому, что в общественном сознании XIX в. господствует мысль о принципах всеобщей полезности , которые применяются не только к утилитарным явлениям жизни, но и к духовным. Система всеобщей полезности объявляется абсолютной ценностью общественной жизни в целом и человеческой в частности, как нечто само по себе более высокое, как правомерное само по себе. Это рационалистическое сознание, ограничивающее человеческий опыт исключительно эмпирическим подходом к постижению реальной действительности, с точки зрения сознания художественного, включающего в себя иррациональное начало априори, не могло не вызвать глубокой реакции, активного протеста у определенной части поэтов, которых, как правило, относили к направлению «искусства для искусства». В художественной литературе этого времени (в том числе и в русской прозе) возникает одна из магистральных тем – тема всеобщего блага или иными словами тема пользы или дела. Причем понятие это могло интерпретироваться как анти -ценность, если всеобщая польза предполагала достижение только определенных, социально значимых целей. И напротив, это же понятие переосмысливалось, если под всеобщим благом понималось не только сказанное выше, но и область эстетической, духовной, религиозной жизни человека. Сквозным мотивом, вырастающим из этой проблемы, теснейшим образом связанной и с темой предназначения поэта и поэзии, в творчестве многочисленных поэтов второй половины XIX в. становится образ «птички» (чаще «соловья»; у Я.П. Полонского, к примеру, появляется и оригинальный образ «кузнечика-музыканта»). Характерный мотив с отчетливой сатирической окраской звучит и в балладе с тенденцией (определение жанра принадлежит самому автору – А.К. Толстому) «Порой веселой мая…»: Но соловьев, о лада, / Скорее истребити / За бесполезность надо! , и в стихотворении «Птичка» Я.П. Полонского: В небесах, но не для неба, / Вся полна живых забот, / Для земли, не ради хлеба, Птичка весело поет ; и в октаве «О трепещущая птичка…» А.Н. Майкова: О трепещущая птичка, / Песнь, рожденная в слезах! / Что, неловко, знать, у этих / Умных критиков в руках? / Ты бы им про солнце пела, / А они тебя корят, / Отчего под их органчик / Не выводишь ты рулад! . Подобные примеры, безусловно, можно обнаружить в русской поэзии и более раннего времени, что только подтверждает сознательное и принципиальное противопоставление поэзии и утилитарности в традиционной системе ценностей.
В эпоху же воинствующего рационализма, когда знанием и пользой исчерпывается и восприятие мира, и сознательное отношение к миру, с легкостью лишаются священного ореола все роды деятельности, на которые ранее смотрели с благоговейным трепетом. Ученый, врач, священник, поэт в этой системе ориентиров превращаются всего лишь в платных наемных работников. Невольно напрашивается, например, параллель между стихотворением Я.П. Полонского «Жалобы музы»: На вытертый грош / Не вижу я пользы от песен твоих! и романом И.С. Тургенева «Отцы и дети», в котором словами Базарова выражена программная мысль нигилистического (по сути своей рационалистического и позитивистского) движения в России: По-моему, Рафаэль гроша медного не стоит . Заимствованное у позитивизма представление о пользе как о высшей ценности, которое переносилось абсолютно на все сферы действительности, в том числе и на эстетическую область, без труда обнаруживается в русской критике, например, у Д.И. Писарева: «Что можно разбить,– излагает философ-материалист и револю-ционер-демократ,– то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам» [2, с. 45]
Именно во второй половине XIX в. усугубляется процесс так называемого «расколдовывания» и «демифологизации» самой действительности, то есть межчеловеческих взаимоотношений и отношений людей к природе (как к внешней, так и внутренней – природе самого человека). Закономерно поэтому, что искусство, которое до сих пор развивалось в рамках традиционной (или, можно сказать, традиционно-мифологической) эпистемологической системы, должно было особенно болезненно переживать катастрофические последствия углублявшегося в мире – по мере развития капитализма – процесса «модернизации» и «демифологизации» социокультурного мира [13]. «Не плоть, а дух растлился в наши дни…» определит диагноз болезни наступившей эпохи рационализма Ф.И. Тютчев в 1851 г. («Наш век»). Вслед за ним Я.П. Полонский раскроет глубинные тенденции времени с их верой в тотальную ликвидацию традиционных ценностей культуры, прямую атаку на христианство как мировоззренческую систему: Век девятнадцатый – мятежный, строгий век – / Идёт и говорит: «Бедняжка человек! / О чём задумался? бери перо, пиши: / В твореньях нет творца, в природе нет души («Век», 1864 г.). Знаменательно и одно из программных стихотворений А.К. Толстого «Против течения» (1867 г.), которое буквально подрывает твердость рационализма и эмпиризма, ограничивающих, замыкающих горизонты: Други, вы слышите ль крик оглушительный: / «Сдайтесь, певцы и художники! Кстати ли / Вымыслы ваши в наш век положительный? / Много ли вас остается, мечтатели?. «Против течения!» благодаря глубоко символичному рефрену прозвучит как девиз тех немногих, но «не последних могикан искусства», веривших, что оно «не умрет и не может умереть, как бы там ни старались разные Чернышевские, Писаревы, Стасовы, Корфы и так далее, кто прямо, кто косвенно,– напишет в одном из писем Толстой. – Убить искусство так же легко, как отнять дыхание у человека под тем предлогом, что оно роскошь и отымает время даром, не вертит мельничных колес и не раздувает мехов. Уверяю Вас, что эти господа вовсе не страшны для искусства» [14: 4, c. 249].
Закономерно, что чем дальше прогрессировал этот всеохватывающий процесс, тем более очевидным становилось то, что художественное сознание не могло существовать и развиваться не опираясь на систему ценностных координат. Ю.Н. Давыдов, выдающийся русский философ, выделяет несколько направлений поиска выхода из этого эпистемологического кризиса во второй половине XIX в. [6, c. 13]. Назовем лишь наиболее характерные для русской культуры: первый путь – сближение искусства с философией, которая давала надежду на возрождение или обновление мифа, порождение нового мифологического сознания в недрах художественного творчества [13]; второй – путь полного приятия рационализации и модернизации мира, которые могут стать основой для системы ориентиров как человеческого поведения, так и художественного творчества и эстетического восприятия, то есть «обязательное условие нового искусства, заключается в том, чтобы подчинить все свои замыслы системе законов реальности» [6, с. 14].
Этим по существу объясняются основные тенденции русской общественно-литературной жизни второй половины XIX в. Во-первых, два главенствующих требования современного искусства – свобода и реализм, свобода от абсолютных эстетических догм в области художественного творчества, которые, как видим, трактовались достаточно своеобразно. Во-вторых, в области социальной – переход от абсолютных идеалов к реальной программе жизни; выработка свободно-критического мировоззрения на основе естественных наук взамен идеалистической догмы.
Закономерными, таким образом, являются очевидные особенности литературного процесса второй половины XIX в.: период 1840–1870-х гг. – это время высочайшего взлета русского реализма, программой которого является верность действительности, прямой отклик на запросы общества, а преимущественной формой такого отклика – проза. Ведущее положение занимает жанр романа не только в отечественной, но и в мировой культуре. Публикация стихов отходит на второй план: журналы конца 1840-х гг. печатают их для заполнения пробелов между прозаическими текстами. Именно в это время В.Г. Белинский, например, заявляет, что «общество, которое предпочитает стихи прозе, только забавляется, а не мыслит» [1: VI, с. 236].
В еще более резкой форме это проявится в революционно-демократической эстетике, где принципы художественного отражения действительности и художественной правды неотъемлемы от конкретного историзма: ориентации на современную социальную действительность в ее историческом развитии. Разумное, а значит истинное (объективное, всеобщее, безусловно достоверное) осмысление действительности резко противопоставляется чувственному, а последнее, как известно, имманентно именно поэтическому творчеству. Причем в рационалистическом толковании неистинные знания возникают именно в силу подверженности человека влиянию со стороны его эмоционального начала, которое в виде душевных «страстей» искажает истину в угоду чувствам. Таким образом, если принять во внимание, что лирика – это выражение прежде всего субъективного – чувства, эмоции, «абсолютное выражение духа», то в рамках позитивистской философии «чистой поэзии» вполне закономерно было отказано в возможности подлинного постижения объективной действительности (и прежде всего представителям направления «искусства для искусства», продолжавшим писать на «птичьем языке»: Ф.И. Тютчеву, А.К. Толстому, А.А. Фету, А.Н. Майкову, Я.П. Полонскому и др.). Именно эти поэты выбрали третий, совершенно иной путь – сохранить верность системе традиционных православных христианских ценностей, а не присягнуть «духу века сего».
Рациональная современность и позитивизм, отрицая иррациональное, поэзию в самом широком смысле и придавая исключительно эмпирическому знанию объективное и общечеловеческое значение, замкнулись в царстве видимых вещей. Конфликт сердца и разума, эмоционального и рационального исходил из самой установки верховенства знания и отрицания веры. По существу, наряду с И.С. Тургеневым, И.А. Гончаровым, Ф.М. Достоевским, Л.Н. Толстым глубокий поэт-философ Я.П. Полонский в своей лирике продолжает лермонтовскую традицию развенчания трагического самодавления ума над сердцем, разрыва между знанием и верой: «Умы, и хладные и твердые, как камень» [9, с. 123]. Поэт создает образ современного ему человека, перефразируя Ю.М. Лермонтова, героя своего времени,– законченного рационалиста, который оттого что он верить в людей перестал , оттого что он в истине пользы не видит , оттого что он с детства насильно учён , верит только в удачу, да в хитрость людскую, / Да в чины, да в мошну золотую [11, с. 5].
Однако такое соотношение рассудочного и чувственного начал не удовлетворяло уже И. Канта (XVIII в.) и, тем более, не могло быть принято в полной мере русской художественной мыслью XIX в. О неоднозначности приоритета «ума» над «сердцем» убедительно свидетельствуют исследования А.М. Буланова: «”вина” эмоций кажется для многих очевидней “вины” разума», – практически мы по-прежнему понимаем эту дилемму «по-просветительски» [3, с. 6]. Анализируя эту проблему на материале прозы А.И. Гончарова, Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, профессор А.М. Буланов неизбежно в своем исследовании обращается к христианскому пониманию личности. В центре его исследования каждый раз оказывается проблема гармонического единения «ума» и «сердца», а вместе с ней неизбывный вопрос о вероятности такой гармонии, согласованности неизбежных противоречий: возможно ли их гармоническое соотношение? Или «ум» и «сердце» вечно непримиримы? [Там же, с. 8].
Стремясь постичь диалектику «рационального» и «сердечного» в русской литературе, А.М. Буланов предпринимает попытку через литературоведческий анализ понять внутреннюю природу человека, как он сам замечает, «объяснить ему его самого», «ответив на самые острые вопросы современности», но уже нашего века [4, с. 3]. И в этой благородной цели есть свой резон: и научный, действительно раскрывающий существеннейшие стороны природы художественного мышления, принципы характерологии того или иного писателя, и в том числе общечеловеческий. Но есть еще более важные предпосылки в изучении проблематики соотношения рационального и эмоционального, «ума» и «сердца» в русской литературе, в которой этот вопрос закономерно занимает не только не последнее, как скромно заметил ученый, но центральное место.
Формулируя в своей монографии, в основу которой легла докторская диссертация 1992 г., актуальность исследования, А.М. Буланов, думается, еще не предполагал, что вопрос об обращении к патристике и патристическому периоду христианской истории станет одним из самых острых в мировом научном сообществе XXI в., причем не только для гуманитариев, что закономерно, но и для естественников. А великий раскол христианского мира приобретет в контексте святоотеческого учения не только традиционное понимание – как распад на Восток и Запад, на Православную Церковь и Католическую, на империю (секулярную форму христианства) и пустыню (аскетическую), но будет истолкован и понят как глубинный и самый тяжелый распад между «разумом» и «сердцем», что в своей совокупности описывает исторический распад человеческого духа. Кризис же современного знания о человеке и сама возможность появления, например, такого учения, как кризисология, которая пытается осмыслить и объяснить глобальный культурный кризис Нового времени в самом широком диапазоне: от конфликтологии до эсхатологии и есть не что иное, как осознание трагической необратимости (в контексте линейного, исторического времени) и катастрофического усиления распада человеческого духа
-
[2] . А отсюда – и исследование проблемы соотношения рационального и эмоционального (как проблемы утраты целостности) в самых разных научных дискурсах (не только в богословии и психологии) закономерно стало одним из самых злободневных. И не лишним будет напомнить, что у истоков разработки этой проблемы в отечественном литературоведении стоит незаурядная личность профессора А.М. Буланова.
Анализ эмоционального и рационального, примененный ученым к русской прозе, не менее плодотворен и при изучении русской поэзии второй половины XIX в. Собственно, и здесь А.М. Буланов своего рода один из первопроходцев, мы имеем в виду его работы, посвященные поэзии А.С. Пушкина, А.А. Фета и Ф.И. Тютчева. Своеобразие понимания соотношения «ума» и «сердца» в русской художественной мысли объясняется глубокой исторической укорененностью ее в патристическом наследии. А потому и вопрос о соотношении таковых не может быть разрешен без обращения именно к православной традиции, не знавшей забвения святоотеческого Предания Церкви. Более того, именно указанное время отмечено широкой популярностью «Добротолюбия» (составитель Паисий Величковский), которое представляет собой сборник творений 24-х Отцов восточной Церкви – своеобразную антологию восточно-православной мистики. В 40–50-е гг. XIX в. усилиями братьев Киреевских также изданы собранные и переведенные с греческого языка тем же Паисием Величковским сочинения Исаака Сирина, Феодора Студита («Огласительные слова»), Григория Паламы, Максима Исповедника и др., составившие целую библиотеку святоотеческих творений, имевших самое широкое распространение.
Изучение эпистолярного и художественного наследия показывает, что А.К. Толстой, Ф.И. Тютчев, А.Н. Майков, Я.П. Полонский и другие поэты пристально следили за современной богословской и философской мыслью. К примеру, у гр. Толстого находим примечательное письмо, так и не вошедшее ни в одно послереволюционное издание: «Я верю Богу, и у меня невысокое мнение о разуме человеческом, и я не верю тому, что он (Лаблаш – С.С. ) называет возможным и невозможным, – я верю больше тому, что я чувствую, чем тому, что я понимаю , так как Бог нам дал чувство, чтобы идти дальше, чем разум, также как музыка совершеннее слова» [14, с. 58]. Гр. Толстой обозначил тем самым сферу поэтического творчества – созерцательный интерес художника к «внутреннему миру» человека, где именно вера позволяет духовными очами созерцать мир вещей невидимых и испытать чувство сокровенного. А область чувства, как известно, традиционно связывается с сердцем.
И действительно, поэтическая номинация «сердца», как заметил о поэзии второй половины XIX в. А.М. Буланов, имеет достаточно высокую частотность, картина выглядит впечатляющей. Но возникает несколько противоречий в понимании того, что тогда представляет собой лирическая стихия. С одной стороны, закономерно утверждение, что это и есть в основном жизнь чувства, «сердечная жизнь», или субъективное выражение духа. Сердце – источник и главный орган переживания страстей. Яркий пример – «Предопределение» Ф.И. Тютчева, в котором Любовь – «поединок роковой» двух сердец. Но с другой, сердце же – главный судья, оно же дает истинное познание вещей, знание самой истины: И вещим сердцем понял я, / Что все рожденное от Слова, / Лучи любви кругом лия, / К нему вернуться жаждет снова (А.К. Толстой. «Меня во мраке и в пыли...»). И здесь обнаруживается отождествление «сердца» с «разумом», умной частью души, характерное для христианской антропологии.
Обнаруживается и другое противоречие. С одной стороны, революционно-демократической критикой второй половины XIX в. поэзии «чистого искусства» отказано в мысли, понимаемой как рациональная рефлексия, рассудочная деятельность, способность отражать и осмыслять сложные объективные явления жизни. Но с другой – творчество именно этих художников, а не «некрасовского направления» в истории русской литературы получает наименование «поэзия мысли». При этом мы обнаруживаем самые разнообразные эпитеты: мысли воинствующей (Толстой), мысли созерцательной (Тютчев, Полонский, Фет), религиозно-философской (Тютчев, Толстой), созерцательно-рассудочной (Майков) – и ряд этот можно было бы продолжить.
Можно и далее говорить о парадоксальности оценок и разноречивости взглядов на соотношение эмоционального и рационального, но вряд ли это поможет пролить свет на некоторую затемненность вопроса. Истоки же его прояснения лежат в святоотеческом учении о человеке, а именно о «духовном сердце». Согласно молитвенному опыту святых отцов, это духовное сердце находится в плотском сердце, как в некоем органе. Святитель Григорий Палама ссылается на речение Господа: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» [Мф. 15: 19] и на слова преподобного Макария: «Сердце правит всем составом человека, и если благодать овладеет пажитями сердца, она царит над всеми помыслами и телесными членами, ибо в нем заключены ум и все помыслы души». В этой связи он указывает, что «сердце наше есть сокровищница разума и первый плотской разумный орган» [5, с. 43]. Возвращаясь от своего рассеяния, ум прежде всего находит телесное сердце, а затем входит в сердце духовное, глубокое. Таков общий опыт всех делателей Иисусовой молитвы, подвизавшихся в священном делании обращения ума в сердце.
Таким образом, вопрос о единении, слиянии или гармонии «ума» и «сердца» в русской христианской мысли вообще и в художественной в частности – это не поиск какой-то меры, некоторого удовлетворительного соотношения эмоционального и рационального начал в жизни человека, это вера в подлинное преображение ума, «обновление ума» во Христе [Рим. 12, 2]. По ап. Павлу «Иметь Бога в разуме» [Рим. 1, 28] есть наиважнейшее условие чистоты сердца и жизни «сердца духовного». В сердце Бог «записывает Свои законы» [7: II, с. 85]. Там человек не только познает смысл вещей, «но, прошед-ши их все, зрит и Самого Бога» [Там же: III, с. 245]. Достижение такой чистоты сердца, соблюдение и хранение ума в Боге есть восхождение по лестнице духовной жизни, «требующее усилий в восстановлении, прежде всего, утраченной целостности духа, соединения интеллектуальной зрячести и озарений сердца» [8, с. 139], что встречается в жизни достаточно редко. А потому и в художественной литературе, в поэзии, находит, можно сказать, единичное выражение, как например, у А.К. Толстого («Меня во мраке и в пыли…», «Земля цвела…»), отразившего этот религиозно-мистический опыт, на что неоднократно указывали В.С. Соловьев, И.А. Ильин, В.В. Зеньковский, архиеп. Иоанн Сан-Францисский и др. Но по большей части художественное воплощение получает как раз то, что встречается в жизни ежеминутно, а именно противоречия «ума», каменного, бесчувственного, и «сердца», непросветленного светом разума. В поэзии второй половины XIX в. течения мысли и движения сердца приобретают свое тончайшее выражение – это своеобразная «скоропись духа» «сокровенного человека», фиксирующего жизнь во всем многообразии его проявлений.
Закономерно, что единство эмоционально-рациональной жизни находит свое наиболее глубокое и сложное выражение именно в лирике Ф.И. Тютчева, А.К. Толстого, А.Н. Майкова, Я.П. Полонского и др. Русская религиозно-философская поэзия второй половины XIX в. утверждает христианскую идею о том, что человек призван стремиться к преображению ума, что в действительности вопрос о противопоставлении ума и сердца, знания и веры обнаруживает лишь непонимание подлинной их природы. Поэты-мыслители, поэты-мистики середины века «мятежного» утверждали отсутствие взаимного ограничения знания и веры. Крайности – отрицание знания или, напротив, веры; верховенство одного над другим – были им глубоко чужды. Именно поэтому воинствующий рационализм второй половины XIX в., утверждающий самодержавность, всесильность знания, ума человеческого, вызывал столь непримиримую оценку в их творчестве. Вместе с тем ни один из поэтов не опровергал очевидное всем: что рациональное познание позволяет человеку постигать законы природы. Категорического обличения, по их глубокому убеждению, требовало именно ложное утверждение о невозможности созерцания идей как реальностей, иных миров, чудесного, наконец, отрицание всей системы традиционных православных христианских ценностей. Религиозное, иррациональное чувство, выраженное в поэзии как созерцание (интуиция) «иного мира», божественных энергий – любви, красоты, истины, добра, све-та,– само по себе свидетельствовало о подлинном и непреходящем назначении искусства. Именно отрицанию поэтического дара как Божьей печати и самого искусства, отрицанию откровения и чуда и противостоит образ «птички голосистой» (Я.П. Полонский «Птичка»). Потому и сердцу гордому завидна / Доля птички полевой!, что по сути это ярчайший и зримый символ свободного акта веры, глубинный образ подлинного призвания художника: служить словом не себе и не конкретно-исторической цели или задачам эпохи (преходящим, а значит, не-истинным), но Богу – воспевать, любить, славить Творца и Его творение. Знаменательно и то, что сатирический памфлет А.К. Толстого «Порой веселой мая…» на воинствующий рационализм, позитивизм, эмпиризм и нигилизм эпохи венчает резкое полемическое высказывание, напоминающее виртуозную эскападу:
Нет, полн иного чувства,
Я верю реалистам:
Искусство для искусства
Равняю с птичьим свистом;
Я, новому ученью
Отдавшись без раздела,
Хочу, чтоб в песнопенье
Всегда сквозило дело.
Поэт-певец наносит удар по противнику-рационалисту его же оружием: актуализируются и переворачиваются буквальные смыслы всех эмблематичных словообразов «враждебного течения» – «Служите ж делу, струны!».
Список литературы Воинствующий рационализм и «птичий свист» в русской поэзии второй половины XIX в
- Белинский В.Г. Собр. соч.: В 13 т. М.: Худож. лит., 1955-1959.
- Бубнова М.И. Базовые теоретические и методологические подходы к сущности и содержанию человеческого капитала в экономике постиндустриального общества//Вестник Тамбов. Ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. 2009. № 5 (73). С. 81-86.
- Буланов А.М. Теоретико-методологические и историко-литературные аспекты проблемы соотношения рационального и эмоционального -дальнейшие перспективы//Диалектика рационального и эмоционального в искусстве слова: 2005: сб. науч. ст. к 60-летию А.М. Буланова. Волгоград: Изд-во «Панорама», 2005. С. 5-12.
- Буланов А.М. «Ум» и «сердце» в русской классике: соотношение рационального и эмоционального в творчестве А.И. Гончарова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Саратов: СГУ, 1992.
- Григорий Палама, св. Триады в защиту священно-безмолствующих./Пер., послесл., прим. В. Вениаминова. М.: Канон+, 1995.
- Давыдов Ю.Н. Любовь и свобода: избранные сочинения. М.: Астрель, 2008.
- Добротолюбие: В 5 т./Перевод еп. Феофана (Говорова). Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992.
- Зеньковский В.В. Основы христианской философии. М.: Канон+, 1996.
- Манаенкова Е.Ф. Характер рационального в раннем лирическом творчестве М.Ю. Лермонтова//Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2012. № 8 (72). С. 122-126.
- Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. М.: Политиздат, 1960. Т. 4.
- Полонский Я.П. Полное собрание стихотворений. СПб.: Издание А.Ф. Маркса, 1896. Т. 3.
- Сакулин П.Н. Из истории русского идеализма: Князь В.Ф. Одоевский: Мыслитель и писатель: В 2-х частях. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1913. -Т. 1. -Ч. 1.
- Семикина Ю.Г. Особенности неомифологической картины мира в романе И. Полянской «Прохождение тени»//Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2008. № 7. С. 115-119.
- Толстой А.К. Полн. собр. соч.: В 4 т. СПб.: Изд-во А.Ф. Маркса, 1907-1908.