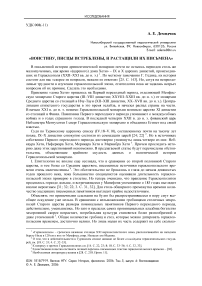«Воистину, писцы истреблены, и растащили их письмена»
Автор: Демидчик А.Е.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.5, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736809
IDR: 14736809 | УДК: 008(-11)
Текст статьи «Воистину, писцы истреблены, и растащили их письмена»
«ВОИСТИНУ, ПИСЦЫ ИСТРЕБЛЕНЫ, И РАСТАЩИЛИ ИХ ПИСЬМЕНА»
В письменной истории древнеегипетской монархии почти не осталось периодов столь же малоизученных, как время «(царского) дома Хети» – IX и X царских династий, происходивших из Гераклеополя (XXII–XXI вв. до н. э.) 1 . По меткому замечанию Г. Гедике, их история состоит для нас «скорее из вопросов, нежели из ответов» [25. C. 143]. Но, сетуя на непреодолимые трудности в изучении гераклеопольской эпохи, египтология пока не задалась всерьез вопросом об их причине. Сделать это необходимо.
Правление «дома Хети» пришлось на Первый переходный период, отделяющий Мемфисскую монархию Старого царства (III–VIII династии; XXVIII–XXIII вв. до н. э.) от монархии Среднего царства со столицей в Ичу-Тауи (XII–XIII династии, XX–XVII вв. до н. э.). Централизация египетского государства в это время ослабла, и начался распад страны на части. В начале XXI в. до н. э. помимо Гераклеопольской монархии возникло царство XI династии со столицей в Фивах. Памятники Первого переходного периода упоминают о междоусобных войнах и о годах страшного голода. В последней четверти XXII в. до н. э. фиванский царь Небхапетра Ментухотеп I сверг Гераклеопольскую монархию и объединил Египет под своей властью.
Судя по Туринскому царскому списку (IV.18–V.10), составленному почти на тысячу лет позже, IX–X династии совокупно состояли из семнадцати царей [24; 22] 2 . Но в источниках собственно Первого переходного периода достоверно упомянуты лишь четверо из них: Неб-каура Хети, Неферкара Хети, Мерикара Хети и Мериибра Хети 3 . Причем проследить историю даже этих царствований невозможно. В предлагаемой статье будут перечислены обстоятельства, объясняющие крайнюю скудость данных о политической истории Гераклеопольской монархии.
-
I. Египтология не вполне еще осознала, что в сравнении со второй половиной Старого царства, и тем более со Средним царством, письменные источники гераклеопольского времени очень малочисленны 4 . Это обстоятельство не бросалось в глаза до начала девяностых годов прошлого века, пока большинство специалистов оценивали длительность гераклео-польской эпохи примерно в столетие. Но теперь очевидно, что правление Гераклеополитов продлилось гораздо дольше, и встречающееся у Манефона упоминание о 185 годах выглядит вполне вероятным [31; 32; 22; 3. C. 31, 32]. Для столь обширного промежутка времени количество уцелевших письменных памятников выглядит крайне недостаточным.
Объяснять это привычными ссылками на будто бы распространившееся в пору смут всеобщее оскудение уже нельзя. В сравнении с вельможескими гробницами столичных некрополей Старого царства размеры поминальных памятников Первого переходного периода, действительно, уменьшились. Но зато в пределах самих провинциальных кладбищ богатство захоронений скорее возрастает, погребальная культура становится более разнообразной и даже утонченной 5. Общее количество гробниц и стел, которые можно датировать гераклео-польским временем, достаточно велико. Но лишь малая их часть содержит на себе сколько- нибудь пространные надписи. В контексте древнеегипетского мировоззрения это выглядит довольно-таки странным. Ведь увековечение на кладбище имени и титулов, названий жертвенных яств, жертвенных формул, хвалебных рассказов об усопшем считалось у египтян важнейшим средством обеспечения бессмертия 6.
Сопоставим, однако, это обстоятельство с не вполне обычной структурой письменных источников гераклеопольского времени.
-
II. Как отмечал О. Д. Берлев, «весь период документируется почти исключительно эпиграфическим материалом, хорошо отразившим кризисный характер этого отрезка времени, но все еще малоинформативным для того, чтобы можно было проследить ход событий хотя бы с некоторыми подробностями» [1. C. 31]. Отсутствие папирусных архивов – признак упадка в Первый переходный период крупных централизованных хозяйств и сокращения сферы деятельности государственной администрации. Но вместе с тем оно могло быть и следствием общего сокращения числа грамотных людей в египетском обществе, резкого снижения качества подготовки писцов.
Последняя догадка косвенно подтверждается малым объемом жизнеописаний в сохранившемся эпиграфическом материале. А там, где они все-таки встречаются, часто преобладают элементы так называемой «идеальной автобиографии» – «формульные», «клишированные» расхожие хвалебные эпитеты и фразы. Создается впечатление, что написание пространных индивидуальных, «оригинальных» жизнеописаний давалось в этот период с большим трудом. Если этот вывод справедлив, его можно было бы объяснить двумя обстоятельствами.
-
III. Наши сведения про обучение грамоте в Старом царстве очень скудны. Но, несомненно, что центром этого процесса была столица, Мемфис, и что важное место в нем занимала школа при царском дворце. С гибелью Мемфисской монархии эта отлаженная за полтысячелетия система обучения могла распасться, что неизбежно привело бы к резкому падению уровня грамотности во всем обществе.
Есть даже основания полагать, что в дни свержения мемфисского режима, в ходе массовых беспорядков и грабежей, значительная часть чиновников-грамотеев была перебита бесчинствующими толпами. Выразительно сказано о разгроме служебных присутствий в «Речении Ипувера»:
«Воистину, священный передний покой (дворца) – его письмена растаскиваются 7 , разглашаются тайны, пребывавшие в нем.
Воистину, (магические) заклинания разглашены,
(списки) предзнаменований и заклинания о богоявлении стали опасны, ибо их запоминают простолюдины 8 .
Воистину, распахнуто служебное присутствие, растащены его списки, (и чьи-то) собственные люди становятся владыками собственных людей. Воистину, писцы истреблены, и растащили их письмена;
как мне плохо от ущербности их времени!
Воистину, писцы кадастров – их письмена уничтожаются, и зерно Египта – легкая добыча.
Воистину, законы (дворцовой) судебной палаты выброшены наружу 9, по ним ходят в присутственных местах, и недоросли разрывают 10 их в переулках» (Pap. Leiden I 344 rt, 6, 5–6, 11 [23]) 11.
Последовавшие за этим смуты и борьба за власть могли привести и к истреблению немногочисленных грамотных семейств в областях-номах. Ведь совершенными навыками чтения и письма обладали в первую очередь главы областей и близкие к ним служащие. По мнению Т. М. Шэхаб Эль-Дин и О. Д. Берлева, слой наследственного чиновничества Старого царства был практически полностью разрушен [7. C. 265, 266]. К концу гераклеопольского времени о той служилой аристократии ностальгически вспоминали как об элите человечества – первой и потому лучшей партии «посуды», вылепленной на гончарном круге творящим людей богом Хнумом [12. C. 121; 7. C. 265, 266; 21]. А новые власть предержащие противопоставлялись той «первопосуде» как «моча»[9. Graffito 20. 2, 26. 4; 12. C. 121]. Едва ли первоначально они были столь же образованы как служилая знать Старого царства. Примечательно, что асьют-ский номарх Хети I, хоть и похвалялся древностью своего происхождения, обучение проходил не дома, а в Гераклеополе вместе с царскими детьми [16. Grab V, 21–23]. Один их герак-леопольских монархов, указывая на огромную пользу области Мемфиса для царей, специально подчеркивал, что сохранившиеся там чиновничьи семейства восходят ко времени столиц Старого царства 12. Видимо, даже по прошествии столетия их профессиональная подготовка казалась выдающейся.
Похоже, для устранения нехватки грамотных людей Гераклеополитам пришлось специально налаживать подготовку писцов. Именно в это время впервые фиксируется термин атсеба «школа» [16. Grab IV, 66–67], и было создано древнейшее известное нам учебное пособие – Кемит [12. C. 122]. Но для воссоздания системы массового обучения иероглифическому письму в древности требовались десятилетия и даже века. Например, после разгрома шумерских школьных центров сыном Хаммурапи Самсуилуной (1739 г. до н. э.) деятельность писцов обрела прежнюю продуктивность лишь через полтора – два столетия [6. C. 63, 64] 13 . Таким образом, усилия Гераклеополитов могли принести заметные плоды в лучшем случае к концу их царствования. Датировка большинства источников гераклеопольского времени крайне неопределенна, но создается впечатление, что во второй половине этого периода количество письменных текстов несколько возрастает 14 .
В общем же, снижение уровня грамотности египетского общества могло стать важной причиной малочисленности и краткости жизнеописаний на памятниках гераклеопольской эпохи.
-
IV. Важно также отметить, что умение писать обычно сводилось к овладению скорописью - иератикой. На камне же - на стелах и в гробницах - принято было вырезать иероглифические надписи: именно «монументальная» иероглифика была письмом «божьей речи». Но лиц, обученных исполнять подобные надписи, было гораздо меньше, нежели просто грамотных египтян. В Старом царстве таких мастеров специально готовили в Мемфисе и, видимо, лишь затем направляли некоторых из них в столицы номов.
На территории доменных владений Гераклеопольской монархии данная ремесленная традиция столицы сохранилась и в Первый переходный период. Но создается впечатление, что теперь ремесленники гераклеопольского и мемфисских кладбищ легко справлялись лишь с «типовым» словесным материалом – титулами, жертвенными формулами, элементами «идеальных» жизнеописаний. Возможно, и это было следствием снижения уровня профессиональной подготовки.
Направление же резчиков иероглифики за пределы царского домена практически прекратилось. Единственным выходом для провинциальной знати могло стать появление местных, доморощенных «школ» изготовления кладбищенских надписей. Выдающийся знаток египетской эпиграфики, Г. Дж. Фишер, действительно, отметил появление в Первый переходный период локальных «стилей» иероглифики [20. C. 55]. Но такого рода перестройка неизбежно должна была привести к временному уменьшению количества и сложности надписей на камне.
-
V. При общем сокращении числа и объема кладбищенских жизнеописаний изменилась и сама их тематика. В эпоху крайней слабости царской власти чиновники стали похваляться не столько своей службой государю, сколько заботой о подвластной области, делами на пользу
соседей и домочадцев. Кроме того, как отмечал О. Д. Берлев, в смутное время «придворная или административная карьеры совершенно утратили в глазах египтян свою привлекательность. На первый план в думах и чаяниях людей той поры и, стало быть, и в надгробной автобиографии… выступает личное экономическое благополучие. Надгробная автобиография в пору смут сплошь и рядом представляет собой имущественный инвентарь, богатства, которые автору надписи удалось приобрести за время его жизни» [2. C. 36]. Естественно, что судить по таким текстам о политической ситуации во всей стране или о деятельности центрального правительства очень сложно.
Возвращаясь к нашему пп. III, можно, кроме того, отметить, что падение престижа карьеры неизбежно вело и к падению уровня грамотности.
-
VI. Даже когда в жизнеописаниях упоминается государь, понять, какой именно монарх имеется в виду, обычно нельзя. Чиновники Старого царства с гордостью называли в кладбищенских автобиографиях имена своих царей. Но за смертью Пепи II, видимо, последовала ожесточенная борьба придворных группировок, и государи стали меняться с поразительной быстротой. Эллинистический историк Манефон утверждал, что все пять царей VII династии совокупно властвовали 75 дней 15 . Да и 17 государей VIII династии едва ли правили дольше 26 лет [10; 11. C. 151, 152].
Естественно, что упоминания о службе столь недолговечным царям стали казаться египтянам делом бессмысленным и даже опасным. Ведь чиновники малосильных государей едва ли могли вызвать у потомков уважение. А новый монарх, если ненавидел предшественника, мог и разрушить кладбищенский памятник с неугодным именем. Поэтому при VIII династии о служении царям стали рассказывать, не называя их имен [27. C. 219; 7. C. 90].
В гераклеопольское время известны только два исключения из этого правила, причем вполне объяснимые. Номарх Анхтифи фактически узурпировал высокую должность, силой устранив с нее почтенного предшественника [33; 3]. И естественно, что в свое оправдание он счел нужным назвать имя государя, узаконившего эти «справедливые» притязания 16 . Сходным образом номарх Хети II смог утвердиться во главе Асьютской области только при военной поддержке царя [16. Grab IV, 9–18]. Так что и ему для обоснования права на власть нужно было прямо назвать государя, принявшего личное участие в его судьбе.
В Фивах имена государей XI династии стали называться в кладбищенских жизнеописаниях начиная с ее третьего царя, Уаханха Инийотефа. Он правил почти полвека, и подданным естественно было поверить и в его долгую посмертную славу. К тому же, чиновники крошечного Фиванского царства готовились к погребению на фиванских же кладбищах. Понимая, что их жизнеописания в любой момент могут попасться на глаза государю, они предпочитали не замалчивать его имя, а напротив, снискать его милость уважительным упоминанием. Но в царстве Гераклеополитов похожего не случилось.
-
VII. Теоретически малочисленность письменных текстов о Гераклеопольской монархии могла бы объясняться и целенаправленным их уничтожением после победы Небхапетра Ментухотепа I. Но надежных подтверждений этому нет. Как известно, в Моалла и Асьюте уцелели жизнеописания сторонников Гераклеополитов, с гордостью повествующие о победах над фиванцами. Стало быть, в масштабах всей страны уничтожения памятников IX–X династий не производилось.
Поражает, конечно, отсутствие сколько-нибудь информативных источников на столичных кладбищах – в Гераклеополе и Мемфисе 17 . Упоминания о политических событиях в них столь скудны, что сама датировка большинства памятников гераклеопольским временем не может считаться вполне доказанной [14; 17; 34]. Поэтому можно было бы предполагать целенаправленное выискивание и уничтожение текстов о Гераклеополитах в пределах их царского домена 18 . Но и это – не более чем догадка, поскольку массовое разорение погребений происходило на упомянутых кладбищах и позже. Указать на разрушения, произведенные именно фиванцами, пока нельзя.