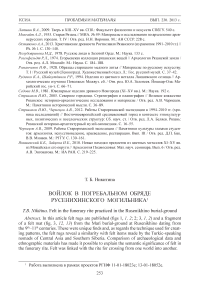Войлок в погребальном обряде Русенихинского могильника
Автор: Никитина Т.Б.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Проблемы и материалы
Статья в выпуске: 230, 2013 года.
Бесплатный доступ
В этой статье были опубликованы ковровые изделия (рис. 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2) и фрагмент войлочного коврика (рис.3, 12, 13) с могилы Марии в Русенихино, начиная с 9-го -11 века. Это были уникальные находки, а в том, что касается техники, используемой для творческих узоров, войлочные ковры показывают сходство с войлочными предметами, сделанными тюркоязычными мальчиками Средней Азии и Южной Сибири. Сравнение археологических данных и этнографических материалов позволило объяснить семантическое значение войлока в погребальном обряде. Войлок был связан с обрядом для перехода из одного мира в другой.
Марийская культура, тюрки, войлок, погребальный обряд, куль-турные и торговые связи
Короткий адрес: https://sciup.org/14328553
IDR: 14328553
Текст научной статьи Войлок в погребальном обряде Русенихинского могильника
Наиболее массовыми категориями археологических источников в большинстве случаев являются предметы из металла, керамики, камня, в редких случаях – из кости. Органические материалы за давностью тысячелетий, как правило, почти полностью уничтожены, и отдельные сохранившиеся находки являются уникальной редкостью. В этом отношении положительное исключение представляет Русенихинский могильник, в котором сохранились в большом количестве меха, кожи, ткани и войлок.
Русенихинский могильник расположен на правом берегу р. Ветлуги в Нижегородской обл., датируется X–XI вв. и относится к марийской культуре. В настоящее время на могильнике вскрыта площадь более 900 м2, изучено 18 погребений и 15 жертвенных комплексов, содержавших большое количество инвентаря. Почти во всех жертвенных комплексах зафиксированы фрагменты войлока. Из-за плохой сохранности не всегда удается определить их назначение. Не исключено, что часть из них могла быть и остатками одежды.
Особый интерес представляют находки войлочных ковриков. В четырех комплексах сохранились достаточно крупные фрагменты, по которым возможно определить характер изделия и попытаться установить его назначение.
В жертвенном комплексе 5 на дне северного туеса зафиксированы два войлочных коврика. Коврики подквадратной формы, размерами 30×30 см (см. цв. вклейку, рис. XIII, 1, 2 ). Фактические размеры были больше, т. к. войлок деформирован. Каждый коврик согнут по диагонали в форме треугольника. Они лежали на дне округлой ямы, соединенные диагоналями, вершинами треугольников в разные стороны, образуя в плане квадрат. Войлочные коврики простеганы насквозь шерстяной ниткой слабой крутки толщиной 1–1,5 мм2. Линии стежки выполнены в виде окружностей, спиралей и роговидных узоров. Цвет войлока коричневый, цвет нити также коричневый, местами малиновый. Фрагменты войлока, стеганного нитью из светлой шерсти слабой крутки толщиной 2 мм, фиксировались и в южном туесе этого же комплекса. Сохранность последнего плохая, и детали, дающие информацию о форме, орнаментации, особенностях использования, утеряны.
В составе комплекса вместе с войлоком находились фрагменты ремня из кожаной ленты шириной 2,5 см, украшенной металлическими накладками, кожаного кошелька лировидной (грушевидной) формы, железный нож. Металлические накладки очень плохой сохранности, двух разновидностей, орнаментированы в одном художественном стиле. Лучше сохранился наконечник ремня (см. цв. вклейку, рис. XIII, 3–6). В кошельке обнаружены кремень, 3 подражания дирхемам, железное кресало калачевидной формы. Под кошельком и поясным набором обнаружен плотный слой меха с оттиснутым на нем орнаментом из бронзовой проволоки различной толщины. Все три подражания дирхемам имеют легенду с именем Ат-Таи биллаха конца Х в.3
В жертвенном комплексе 8 также обнаружены два войлочных коврика. Коврики имели вид треугольников с размерами сторон 13 см, по диагонали – 15 см (см. цв. вклейку, рис. XIV, 1, 2 ), уложены на дно туеса вершинами в противоположные стороны, соединены по диагонали и также в плане образовывали квадрат. Цвет светлый (возможно, был белый), стеганы шерстяной ниткой, образующей окружности.
В комплексе находились медная бусина, две калачевидные серьги из цветного металла, два браслета, застежка и ткань, фрагменты ремня, украшенного накладками, фрагменты ножа, кошелек и развалившаяся накладка на него, изготовленная из тонкой серебряной фольги. Накладка очень плохой сохранности, разбита на мелкие куски корнями деревьев. Частично удалось проследить рисунок. Отдельные детали рисунка похожи на изображения львов на известном кошельке из п. 20 Веселовского могильника ( Архипов , 1973. С. 159. Рис. 49). Вместе с развалом кошелька обнаружены три мелкие накладки, два наконечника и пряжка от ремешка, которым крепился этот кошелек (см. цв. вклейку, рис. XIV, 3 – 11 ).
В жертвенном комплексе 11 обнаружены 4 фрагмента войлока. Судя по толщине, характеру нанесения орнамента, они принадлежат одному или двум совершенно идентичным изделиям. К сожалению, данный комплекс полностью разграблен кладоискателями, и фрагменты войлока были обнаружены в заполнении в переотложенном состоянии совместно с тканями, фрагментами кожи и металлическими украшениями. Самый большой фрагмент имел размеры 12x10 см (см. цв. вклейку, рис. XV). Войлок имеет коричневый цвет. На поверхность нанесена вышивка в технике односторонней глади из крученых нитей различных цветов (светлых и синего/черного), которые образуют сплошные зоны, иногда треугольники. Орнаментальные композиции имеют форму меандров или окружностей. Оборотная сторона сохраняет общий орнаментальный мотив. На лицевой стороне имеется узор из накладного, крашенного в красный цвет, войлока. В составе комплекса в переотложенном состоянии обнаружены фрагменты кожи, ткани, обувные подвески, обломки нагрудной застежки, фрагменты пояса с сердцевидными и подквадратными накладками и два подражания дирхемам, позволяющие обозначить дату комплекса второй половиной Х в.
Кусочек простеганного войлока обнаружен в жертвенном комплексе 13 . Фрагмент очень небольшой, но следы ниток, образующих узор, аналогичный орнаменту на изделиях из жертвенного комплекса 11, читаются четко (см. цв. вклейку, рис. XIV, 12, 13 ). В этом же комплексе обнаружен поясной набор с позолоченными накладками, треугольные серьги со змеевидным основанием, кошелек грушевидной формы, нож, две монеты и одно подражание середины – второй половины Х в.
В археологических материалах войлок фиксируется достаточно часто, он присутствует в курганах Новгородской земли и Старой Ладоги, скандинавских древностях (Михайлов, 1996. С. 52), в памятниках финно-угров (Материалы по истории мордвы, 1952. С. 11, 175; Городцов, 1914, п. 63, 136, 253) и кочевников. Войлок отмечен и в марийских захоронениях на протяжении всей эпохи средне -вековья (Архипов, 1973. С. 13; Никитина, 1992. С. 30). Из-за плохой сохранности органических материалов в большинстве случаев трудно определить, являлся ли он частью одежды или особенностью погребального обряда в виде подстилки или покрытия. В качестве одного из основных показателей погребального обряда войлок достоверно зафиксирован в памятниках тюркоязычных племен: бурят, монголов и др. (Древние культуры Бертекской долины, 1994. С. 155). Интерес представляют «тайники» около погребений в древнехакасских курганах в виде скопления украшений и иных вещей, положенных в войлочный узелок или сумку. «Тайник» по устройству напоминает жертвенные комплексы Русенихин-ского могильника (Евтюхова, Киселев, 1940), но имеет иной состав инвентаря. Остатки войлока на дне гробовищ обнаружены в Больше-Тиганском могильнике (Халикова, 1976а. С. 160), связанном, по мнению Е.А. Халиковой, с ранними венграми. Но в качестве наиболее показательных характеристик погребального обряда ранних венгров Нижнего Прикамья войлочные подстилки не отмечены (Халикова, 1976б. С. 141-156). В нескольких случаях следы войлочной подстилки зафиксированы в близких Бекешевских курганах на Южном Урале (Мажи-тов, 1981. С. 63, 64). В культуре населения, оставившего Бекешевские курганы, по мнению их исследователя, прослеживается влияние тюркоязычных племен Южной Сибири (Там же. С. 130).
Учитывая плохую сохранность данного вида источников в памятниках археологии, обратимся к материалам этнографии, которые свидетельствуют о том, что применение войлоков в бытовой и культовой сферах (как и изготовление войлоков и изделий из них) является достижением древней культуры скотоводов.
У бурят изготовление войлока было окружено ореолом почтительного отношения к этому процессу. Они наделяли войлок «сверхъестественными» свойствами; по войлоку определяли будущее хозяев дома или человека, для которого этот войлок предназначался. Плохо скатавшийся войлок предвещал несчастье, болезнь или смерть членов семьи. Если на войлоке для постели вырисовывался узор в виде треугольника, это предвещало рождение ребенка в семье. Во время похорон шамана перед сожжением клали на войлок, чтобы оградить от соприкосновения с землей и сохранить чистоту ( Гыргеева , 2009. С. 149). На белый войлок сажали молодых во время свадьбы (Изготовление продукции из шерсти...). Значительное место войлок занимал в родильной обрядности бурят. При совершении обряда захоронения последа у верхоленских бурят «в северо-западной части юрты за очагом (хоймор) поднималась половица, и роженица клала на землю серебряную монету. На этом месте исполняющие обряд старухи копали ямку, на ее дно стлали войлок, на который клали шерсть, затем зерна, на них правую заднюю бабку овцы, и на все это сверху клали послед (который хранился первые сутки в шерстяном чулке или войлочном мешочке под кроватью роженицы или где-нибудь в прохладном месте); затем ямку засыпали. После этого варили саламат. Над ямкой разжигали огонь, вокруг которого садились исполняющие обряд старухи и роженица. Чашка с саламатом передавалась трижды по кругу, и каждая из женщин бросала кусочки саламата на ямку, а также ела его.
На этом обряд заканчивался, и половица снова закрывалась» ( Шаракшинова , 2004. С. 37).
У монгольских народов с древних времен войлок белого цвета имел сакральное значение, на нем поднимали избранного на курултае хана.
У тувинцев после смерти умершего заворачивали в войлок, иногда предварительно снимая с него одежду. До похорон он лежал на войлочном коврике в позе спящего человека. В могилу его опускали также в войлоке и рядом укладывали снятую с него одежду. В других случаях одежда оставалась на погребенном, но его все равно заворачивали в войлок ( Дьяконова , 1975. С. 49, 50, 56).
Войлок использовали в свадебном и погребальном ритуалах караимы (как и кумыки, кызыльцы, баяты...). На белый войлок или шкуру становились жених и невеста; их посыпали монетами, миндалем, сахаром, зерном. В конце обряда на голову жениха сыпали немного золы. Черный войлок или шкуру стелили на пол в первый день поминовения, на нем же совершали моления, связанные с обрядом выхода из траура ( Полканов , 1994).
Войлок также широко использовался в культовой практике тюркоязычными народами Поволжья и Приуралья.
У башкир войлок традиционно присутствовал в приданом невесты. Им покрывали сундук с вещами невесты и телегу, на которой везли невесту в дом жениха. На новом месте свекровь приглашала молодую жену пройти в комнату и сесть на нары, застеленные войлоком. Обрядовое действие называлось «расстелить войлок» или «посадить на войлок» и символизировало вхождение молодой в дом ( Шитова , 2006. С. 27).
Войлок активно используется в обрядовой практике чувашей. После смерти человека сразу укладывают на войлочное одеяло, которое для этой цели каждый сам готовит еще при жизни. На кладбище покойника везут на повозке, закрытой войлоком; сверху тело также закрывают войлоком. На подстилке из войлока и закрытый войлоком сверху доставляют на кладбище и памятник, который устанавливают на могилу ( Мессарош , 2000. С. 174, 175, 187). Войлок присутствовал в свадебном обряде, в частности при снятии с невесты свадебного покрывала (Там же. С. 350).
Таким образом, войлок занимает почетное место в традиционной культуре преимущественно тюркоязычных народов, с древности связанных со скотоводством. Средневековый историк Ал-Йакуби отмечал, что «тюрки – самый искусный народ в изготовлении войлока» (История татар с древнейших времен… 2006. С. 471).
Значительный интерес представляют материалы этнографии и фольклора марийского народа, которые свидетельствуют также о значительной роли войлока в культовой практике. В этногенетическом мифе о праматери марийского народа говорится, что дочь бога («юмынÿдыр») на серебряном или красно-розовом войлоке с золотой каймой спускается с неба на землю, чтобы пасти скот. «Берет бог длинный-предлинный красно-розовый войлок с золотой каймой и стелет дорогу с неба до земли (Тошто Марий ой-влак, 1972. С. 60; перевод по кн.: Словарь марийского языка, 2003. С. 339; Калиев, 2003. С. 125). Используется войлок и в марийском свадебном обряде; на войлок встает невеста, перед тем как войти в дом жениха (Яковлев, 1887. С. 64). В свадебных песнях поезжан пе- ред входом в дом невесты повествуется: «В ваш дом мы вошли, мягкий войлок постелив» (Песни луговых мари, 2011. С. 173).
Таким образом, у большинства народов, использующих войлок в культовой практике, он присутствует в обрядах перехода (рождение, свадьба и похороны), символизируя границу между мирами и способствуя переходу человека (или бога) из одного состояния или мира в другое состояние или другой мир. Именно такое значение имеет войлок в марийской традиционной культуре. Жертвенные комплексы, являющиеся маркером марийской культуры X–XI вв., наиболее ярко отражают данный символ и в качестве поминального дара направлены на переход в потусторонний мир.
Возникает второй вопрос: откуда появляется этот обряд в захоронениях X–XI вв. Ветлужско-Вятского междуречья, оставленных, по мнению большинства исследователей, марийским населением, связанным своими корнями с финно-угорским миром?
Несмотря на существующее представление о том, что войлок изготовлялся в основном для личных нужд и внутреннего рынка, все же признано, что войлоки содержат некоторые данные для изучения культурных и этногенетических связей ( Студенецкая , 1979. С. 106). В этом аспекте интерес представляют технология нанесения орнамента на войлок и орнаментальные композиции. Е.Н. Студенецкая, сравнивая войлоки народов Средней Азии и Кавказа, отметила для первых в качестве характерной черты простегивание войлока. Такую технику мы зафиксировали на всех анализируемых образцах Русенихинского могильника. Нанесение орнамента в технике сквозной простежки – очень трудоемкий процесс, требующий высокого мастерства и отличного глазомера. Такой способ был характерен для монголов, бурят, тувинцев ( Студенецкая , 1979. С. 106; Кочешков , 1973. С. 89–91; Петри , 1918. C. 227; Вайнштейн , 1974. С. 135), башкир ( Шитова , 2006. C. 42). Орнаментальные мотивы в виде спиралей, роговидных узоров, зафиксированные на войлочных фрагментах из жертвенных комплексов Русенихинского могильника, также характерны для среднеазиатских народов. Коврики, обнаруженные в Русенихинском могильнике, напоминают «олбуки» тувинцев - небольшие четырехугольные коврики, предназначенные для почетных гостей, которые клали на низкие столики и использовали для сидения ( Вайнштейн , 1974.С. 135).
Таким образом, находки войлоков в жертвенных комплексах Русенихинско-го могильника позволяют говорить о присутствии некоторых элементов культуры тюркоязычных кочевников Средней Азии и Южной Сибири. С влиянием кочевнического мира Востока, вероятно, связаны появление и способ ношения наборных поясов. В связи с этим особый интерес представляют металлические части наборных поясов, обнаруженных в комплексах совместно с войлочными подстилками. В жертвенных комплексах 5, 8, 13 находились металлические пятиугольные накладки двух типов, но выполненные в одном художественном стиле. В центре накладок располагаются несколько окружностей (одна внутри другой), по углам - побеги или спирали, в остром углу - изображение трилистника. Накладки плохой сохранности, очень тонкие, выполнены из белого сплава тиснением. Данная техника очень напоминает технику басмы, в соответствии с которой тонкие металлические листы клали на отлитую заранее из бронзы мат- рицу с рельефным изображением. Сверху лист накрывали свинцовой пластинкой, по которой с силой ударяли молотком. Свинец заполнял углубления матрицы. Под его давлением мягкая фольга растягивалась и, ложась по поверхности рельефа, точно передавала все его особенности. Одна из накладок такого типа подвергнута металлографическому анализу4. На поверхности с изнаночной стороны хорошо заметны следы свинца.
Проникновение к населению Ветлужско-Вятского междуречья элементов южной культуры, связанной с кочевыми племенами Азии и Южной Сибири, требует дополнительного изучения. Данный аспект исследования в настоящее время не освещен в должной мере, но, безусловно, может открыть новые направления в изучении торговых и культурных контактов.
Список литературы Войлок в погребальном обряде Русенихинского могильника
- Архипов Г.А., 1973. Марийцы IX-XI вв.: К вопросу о происхождении народа. Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во. 199 с.
- Вайнштейн С.И., 1974. История народного искусства Тувы. М.: Наука. 224 с.
- Городцов В.А., 1914. Археологические исследования в окрестностях г. Мурома в 1910 г.//Древности: Тр. Московского археологического общества. М. Т. XXIV. С. 40-216.
- Гыргеева К.А., 2009. К погребальной обрядности бурятского шамана: способ кремации//Сибирский сборник-1: Погребальный обряд народов Сибири и сопредельных территорий: [Сб. результатов науч. исследований, изложенных на VII Сибирских чтениях, посвящ. памяти Г.Н. Грачевой (23-24 октября 2007 г., МАЭ РАН)]/Отв. ред. Л.Р. Павлинская. Кн. 2. СПб.: МАЭ РАН: Кунсткамера. С. 147-151.
- Древние культуры Бертекской долины (Горный Алтай, плоскогорье Укок)/Отв. ред. В.И. Молодил. Новосибирск: Наука, 1994. 221 с.
- Дьяконова В.П., 1975. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник. Л.: Наука. 164 с.
- Евтюхова Л., Киселев С., 1940. Чаа-тас у села Копены//Сборник статей по археологии СССР/Под ред. Д.Н. Эдинга. М.: ГИМ. (Тр. ГИМ. Вып. XI.) С. 21-55.
- Изготовление продукции из шерсти у бурят восточной Сибири (по Д.М. Маншееву): [Гл. из кн.: Маншеев. Д.М. Традиционное скотоводческое хозяйство бурят Восточного Присаянья (конец XIX -начало XX вв.). Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2006]//URL: http://vivci.kardash.com.ua/vojlok%20buriaty.htm.
- История татар с древнейших времен. Т. II: Волжская Булгария и Великая Степь/Гл. ред. Р. Хакимов, М. Усманов. Казань: Рухият, 2006. 959 с.
- Калиев Ю.А., 2003. Мифологическое сознание мари: Феноменология традиционного мировосприятия. Йошкар-Ола: Изд-во Марийского ун-та. 216 с.
- Кочешков Н.В., 1973. Народное искусство монголов. М.: Наука. 200 с.
- Мажитов Н.А., 1981. Курганы Южного Урала VIII-XII вв. М.: Наука. 162 с.
- Материалы по истории мордвы VIII-XI вв.: Дневник археологических раскопок П.П. Иванова.
- Моршанск: Моршанский краеведческий музей, 1952. 232 с.
- Мессарош Д., 2000. Сборник чувашского фольклора. Т. 1.: Памятники старой чувашской веры/Собирал и обраб. Д. Месарош. Чебоксары: ЧГИГН. 360 с.
- Михайлов К.А., 1996. Южноскандинавские черты в погребальном обряде Плакунского могильника//Новгород и Новгородская земля. Вып. 10: Мат. науч. конф. (Новгород, 23-25 января 1996 г.)/Сост. П.Г. Гайдуков; ред. В.Л. Янин. Новгород. С. 52-60.
- Никитина Т.Б., 1992. Марийцы (конец XVI -начало XVIII вв.) по материалам могильников. Йошкар-Ола: МарНИИ. 159 с.
- Песни луговых мари. Ч. 1: Обрядовые песни/Сост. А.Е. Китиков. Йошкар-Ола: МарНИИ, 2011. Свод марийского фольклора.) 591 с.
- Петри Б.Э., 1918. Орнамент кудинских бурят//Сб. музея антропологии и этнографии. Т. V: Ко дню 80-летия академика Василия Васильевича Радлова (1837-1917 гг.). Вып. 1. Петроград. С. 215-252.
- Полканов Ю.А., 1994. Обряды и обычаи крымских караимов-тюрков: женитьба, рождение ребенка, похороны. Бахчисарай. 52 с.
- Студенецкая Е.Н., 1979. Узорные войлоки Кавказа (в свете исторических связей народов Кавказа и Азии)//СЭ. № 1. С. 105-115.
- Тошто Марий ой-влак/Сост. В.А. Акцорин. Йошкар-Ола: Кн. лукшо марий изд., 1972. 216 с.
- Словарь марийского языка. Т. 8: У, Ф, X, Ц, Ч/Гл. ред. И.С. Галкин. Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во, 2003. 511 с.
- Халикова Е.А., 1976а. Больше-Тиганский могильник//СА. № 2. С. 158-178.
- Халикова Е.А., 1976б. Ранневенгерские памятники Нижнего Прикамья и Приуралья//СА. № 3. С. 141-156.
- Шаракшинова Е.К., 2004. Фольклор бурятских родильных обрядов//Сибирь. Взгляд извне и изнутри: Духовное измерение пространства: Докл. Междунар. науч. конф. (Иркутск, 24-26 сент. 2004 г.)/[Сост. Н.В. Пономарева]. Иркутск: Иркутский ун-т. С. 36-43.
- Шитова С.Н., 2006. Народное искусство: войлоки, ковры и ткани у южных башкир: Этнографические очерки. Уфа: Китап. 200 с.
- Яковлев Г., 1887. Религиозные обряды черемис. Казань: Православное миссионерское общество. 87 с.