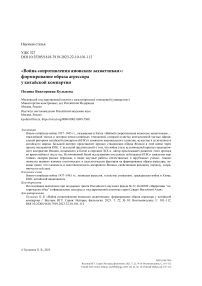«Война сопротивления японским захватчикам»: формирование образа агрессора у китайской компартии
Автор: Кульнева П.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История Восточной Азии
Статья в выпуске: 10 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Японо-китайская война 1937-1945 гг., называемая в Китае «Войной сопротивления японским захватчикам», - тяжелейший эпизод в истории японо-китайских отношений, который остается неотъемлемой частью официальной риторики китайской компартии (КПК) и символом национального единства, мужества и сплоченности китайского народа. Большой интерес представляет процесс становления образа Японии в этой войне через призму восприятия КПК. С исходной предпосылкой о том, что война стала кульминацией кризиса традиционного восприятия Японии, возникшего в Китае в середине XIX в., автор прослеживает развитие этого кризиса во время войны и после нее. Источниковой базой исследования послужили публикации КПК и заявления партийных лидеров разных периодов, а также научные работы отечественных и зарубежных ученых. Анализ позволил выявить влияние политических и идеологических факторов на формирование образа агрессора, показав также, что сложность и многоаспектность восприятия Японии, свойственная военному периоду, сохраняется по сей день.
Японо-китайская война 1937-1945 гг, японская агрессия, «столетие унижения», гражданская война в китае, кпк, китайский национализм
Короткий адрес: https://sciup.org/147242414
IDR: 147242414 | УДК: 327 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-10-101-112
Текст научной статьи «Война сопротивления японским захватчикам»: формирование образа агрессора у китайской компартии
Японо-китайская война 1937–1945 гг., называемая в Китае «Войной сопротивления японским захватчикам» (кит. 抗日战争 канжи чжаньчжэн ), – один из тяжелейших эпизодов в истории японо-китайских отношений, который до сих пор сказывается на взаимном восприятии китайского и японского народов. Память об этой войне становится поводом для масштабных антияпонских демонстраций в материковом Китае, порой наносящих существенный урон экономическим связям двух стран.
Можно утверждать, что даже после принесения государственными лидерами Японии многочисленных извинений Япония сохраняет статус агрессора в китайском общественном сознании. Недавнее (в 2014 г.) выведение на государственный уровень Дня памяти жертв Нанкинской резни – трагического эпизода японо-китайской войны, когда в декабре 1937 г. в результате массовых убийств, жестоких пыток и изнасилований погибли сотни тысяч мирных жителей Нанкина (отмечается 13 декабря, в день взятия Нанкина японской армией) свидетельствует о возвращении памяти о войне с новой силой и ее важном государственном значении. Воплощением памяти о войне являются посвященные ей музеи и мемориальные ком- плексы, наиболее известные из которых – «Мемориальный комплекс жертв Нанкинской резни, пострадавших от японских захватчиков» в Нанкине и «Музей сопротивления китайского народа японским захватчикам» в Пекине.
Учитывая, что Война сопротивления японским захватчикам (далее – также «Война сопротивления») остается неотъемлемой частью официальной риторики китайской компартии (КПК) и символом национального единства, мужества и сплоченности китайского народа, интересно проследить процесс становления образа Японии в этой войне через призму восприятия КПК.
Цель данной работы – выявить основные тенденции формирования образа агрессора у китайской компартии во время войны и после нее и показать, как отголоски прошлого проявляются в японо-китайских отношениях на современном этапе. Исследователи японо-китайских отношений отмечают, что во второй половине XIX в. в Китае возник кризис традиционного восприятия Японии и начал формироваться новый взгляд на эту страну. Модернизация Японии после реставрации Мэйдзи (1868) и, как следствие, постепенное освобождение страны из-под монопольного влияния китайской культуры совпали с вторжением в Китай западного капитализма [Каткова, Чудодеев, 2001, с. 34–43]. Эти процессы обнажили серьезные противоречия японо-китайских отношений, которые проявляются до сих пор.
В данной работе Война сопротивления японским захватчикам рассмотрена как кульминация этого кризиса, и сделана попытка проследить его дальнейшее развитие. Для анализа эволюции восприятия Японии китайской компартией использованы партийные публикации военного времени, статьи официальных китайских СМИ (в первую очередь «Жэньминь Жи-бао»), речи и заявления лидеров КПК (Мао Цзэдуна и следующих руководителей). Раскрытию концептуальных рамок исследуемых процессов помогли работы отечественных и зарубежных политологов-востоковедов.
В связи с особым статусом Тайваня, в том числе в вопросах, касающихся памяти о Японокитайской войне 1937–1945 гг., после основания КНР (1949) мы будем говорить только о материковом Китае.
Борьба за власть и использование компартией антияпонской риторики
На восприятии Японии китайской компартией во время войны не могла не отразиться сложная ситуация на фронте: Война сопротивления японским захватчикам – внешнему агрессору – происходила одновременно с гражданской войной, и хотя для обеих сторон внутреннего конфликта – и для сил Гоминьдана, и для коммунистов – агрессор был общим, это не могло не вызывать противоречий. Так, в рядах Гоминьдана существовали силы (во главе с Ван Цзинвэем), которые выступали за скорейшее заключение мира с Японией. В то же время обеими противоборствующими партиями предпринимались попытки создания объединенного фронта для защиты страны от внешнего вторжения.
Призыв Мао Цзэдуна, фактически ставшего к тому времени лидером китайского коммунистического движения, отразить вместе с Гоминьданом наступление «японских бандитов» (кит. 日寇 жикоу ) и изгнать их из Китая, прозвучавший вскоре после инцидента на мосту Лугоуцяо (7 июля 1937 г.) [Мао Цзэдун, 1991д, с. 344], подтверждает, что Япония имела для коммунистов статус агрессора. Этот статус сохранялся и на последующих этапах сопротивления. Так, в статье «Проблемы стратегии в партизанской войне против Японии», опубликованной в 1938 г., Мао Цзэдун отмечает, что нападение сильной Японии на слабый Китай делает войну оборонительной и затяжной [Мао Цзэдун, 1991б, с. 405]. Ближе к концу войны, в апреле 1945 г., вскоре после денонсации СССР пакта о нейтралитете с Японией, Мао выражает надежду, что после восьми лет «героической и неукротимой борьбы» китайский народ, наконец, «одержит победу над японским агрессором вместе с союзными государствами» [Мао Цзэдун, 1991в, с. 1029].
Вместе с тем, хотя непосредственная связь образа Японии с международным конфликтом и отношение к ней как к внешнему врагу остаются наиболее очевидными, восприятие страны-агрессора китайской компартией во время войны и после нее было сложным и многоаспектным: в риторике военного времени вторжение Японии, с одной стороны, отождествляется с западным империализмом (присоединившись к западным варварам, страна пополнила тем самым ряды захватчиков и предателей), с другой – ставится в один ряд с предательством и коллаборационизмом внутреннего врага КПК Гоминьдана и врагов революции в целом 1. В мае 1937 г. в докладе на национальной конференции компартии в Яньане Мао Цзэдун включил в круг врагов КПК «японских империалистов, китайских предателей, прояпонские фракции и троцкистов» [Мао Цзэдун, 1991е, с. 257]. В 1946 г., на завершающем этапе гражданской войны, коммунистическая партийная газета «Жэньминь Жибао» приводит слова командующего отрядом народного ополчения о том, что «изменник родины» Чан Кайши хочет «продать страну Соединенным Штатам… после того, как китайский народ подвергся восьмилетнему унижению со стороны японских чертей (кит. 日本鬼子 жибэнь гуйцзы )» 2. Предательство Чан Кайши, таким образом, представляется как не меньшая угроза для Китая, чем вторжение Японии.
После начала японской интервенции в Маньчжурию (1931) антияпонские настроения в Китае усилились, особенно в крупных городах, жители которых получали всё более широкий доступ к прессе. Исследователи отмечают, что в 1930-е гг. частым явлением был бойкот японских товаров, демонстрации и даже нападения на японцев [Coble, 1985, p. 293]. Прозвище «японские черти» в адрес агрессора получило широкое распространение.
Несмотря на попытки КПК и Гоминьдана создать единый фронт для борьбы с общим врагом, противостояние двух партий нарастало, а после завершения Войны сопротивления гражданская война возобновилась с новой силой. Одним из решающих факторов окончательной победы КПК в 1949 г. стала ставка на настроения китайского народа и антияпонская риторика.
Еще в сентябре 1931 г. ЦК КПК обратился к народу с лозунгом «национально-революционной войны… против японского империализма в защиту национальной независимости, государственного единства и территориальной целостности Китая». Этот подход был противоположен позиции Чан Кайши, который выступал за «непротивление» Японии и стремился не осложнять японо-китайские отношения [Галенович, 2018, с. 73]. По признанию отечественных и зарубежных историков одним из факторов победы КПК стала ее успешная пропаганда, в ходе которой удалось объединить всех противников партии (включая японских захватчиков) и противопоставить их широким народным массам под лозунгом национального освобождения.
План агитации, написанный Мао Цзэдуном в августе 1937 г. для органов пропаганды ЦК КПК, завершается лозунгом «Да здравствует Новый Китай, независимый, счастливый и свободный!». Параллельно звучат характерные для риторики коммунистов призывы к объединению с рабочими и крестьянами из других стран [Мао Цзэдун, 1991а]. Оценивая антияпон-ский фронт с точки зрения его классовой структуры, КПК отмечает в марте 1940 г., что прогрессивные силы пролетариата, крестьянства и городской мелкой буржуазии значительно окрепли и смогли учредить антияпонские народные правительства. Это дает коммунистам надежду на скорое изменение ситуации к лучшему [Мао Цзэдун, 1991г, с. 744–745].
Таким образом, борьба с японской агрессией воспринимается в контексте революционной и классовой борьбы. Война сопротивления японским захватчикам была для Мао Цзэдуна важной частью революционного движения.
Послевоенные политические приоритеты и эволюция нарратива
Двойственное отношение коммунистов к Японии: с одной стороны, как к врагу и агрессору, с другой – как к союзнику Китая в мировой революционной борьбе, прослеживается и в послевоенные десятилетия. Ранние выпуски газеты «Жэньминь Жибао» 1946–1948 гг. пристально следят за действиями японской компартии, забастовками рабочих, социальными и политическими процессами в Японии, возлагая большие надежды на победу японской революции. Одновременно, по мере усиления противостояния капиталистического и социалистического лагеря, все большее беспокойство у коммунистов вызывает возрастающее влияние США. Это беспокойство проявляется в первую очередь в критике американцев и их обвинениях в помощи японскому вторжению. Одна из статей 1946 г., посвященная годовщине Мукденского инцидента, повествует об американской политике попустительства японскому империализму и колоссальной военной и экономической помощи, оказанной агрессору 3 . В другом выпуске газеты говорится о том, что промышленный кризис, вызванный сейчас (за год, прошедший после войны) американским экономическим вторжением в Китай, намного серьезнее, чем начавшееся 15 лет назад вторжение Японии 4. В других статьях с политикой американских оккупационных властей в послевоенной Японии связывается риск возрождения японского милитаризма и нового японского вторжения.
Контрастно со звучавшим во время Войны сопротивления призывом изгнать из Китая японских бандитов, империалистов и колонизаторов выглядят то и дело мелькающие в «Жэньминь Жибао» сообщения о победоносном движении японского пролетариата за права и свободы. В контексте мировой революции из страны-агрессора Япония превращается в потенциальный плацдарм для борьбы с империализмом и строительства светлого будущего. В статье «Жэньминь Жибао» от 7 июля 1949 г. подчеркнуто стремление китайского и японского народов к мирному сосуществованию, развитию экономического и культурного сотрудничества и нежелание Китая отдавать судьбу страны на откуп США 5.
Восприятие Японии как жертвы империалистической агрессии, угнетения и контроля со стороны США сохранялось и в 1950-е, и в 1960-е гг. В очередную годовщину «инцидента 7 июля», в 1952 г., когда американская оккупация Японии была формально завершена, передовица «Жэньминь Жибао» вновь пишет об объединении китайского и японского народов в борьбе против американской агрессии. Критикуя Договор безопасности США и Японии, газета сравнивает японскую империалистическую агрессию против Китая и империалистиче- скую агрессию США против Японии, считая эти два кризиса самыми серьезными в истории двух стран 6. В январе 1964 г. Мао Цзэдун выражает восхищение массовой демонстрацией японского народа против американского империализма – «самого свирепого врага японской нации» 7.
В то же время приоритетом КПК на мировой арене, помимо получения доступа к ресурсам, необходимым для индустриализации, был выход КНР из дипломатической изоляции, который подразумевал необходимость признания со стороны и США, и Японии как важных субъектов международных отношений. Находясь в орбите влияния США, Япония предприняла шаги для нормализации отношений с КНР сразу после того, как американская сторона объявила о своем намерении сблизиться с Китаем [Нелидов, 2019, с. 62]. Политические приоритеты китайских властей, безусловно, сыграли роль в том, что тема японской агрессии продолжительное время не была доминирующей в послевоенной риторике. В 1950-е и 1960-е гг. напоминания о страданиях китайского народа в военный период считались «нетактичными» и прямая критика Японии практически не звучала [Стрельцов, 2016, с. 338–339].
Однако в 1980-е гг. в риторике китайских властей происходит поворот к «нарративу виктимизации» (от англ. “victimization narrative”), акцентирующему внимание на представлении Китая как жертвы агрессии стран Запада, включая Японию. В рамках нового нарратива Япония всё больше воспринимается как агрессор, который отказывается признать свою вину и раскаяться в содеянном. В 1980-е гг. Китай впервые выразил официальный протест в связи с содержанием японских учебников истории 8 и посещением премьер-министром Японии храма Ясукуни 9 [Молодякова, 2007, с. 62]. В 1990-е и 2000-е гг., несмотря на многочисленные слова сожаления высших должностных лиц Японии о событиях прошлого, принесенные ранее, эти проблемы усугубляются, и со стороны Китая звучит всё более громкая критика характера и содержания принесенных Японией извинений [Кульнева, 2021].
Считается, что нарратив виктимизации пришел на смену героическому нарративу, который господствовал в период гражданской войны и после победы коммунистов. Среди факторов, определивших смену акцентов в восприятии тяжелого периода китайской истории, исследователи отмечают потерю актуальности идеи классовой борьбы, необходимость новой идеологической базы для сплочения китайского народа после реформ Дэн Сяопина, актуализацию памяти о Второй мировой войне в Китае и мире и реакцию Китая на «забвение истории» японской стороной [Перминова, 2022, с. 345–349, 357–358]. Новых усилий для укрепления легитимности партии потребовали также события 1989 г. на площади Тяньаньмэнь.
Смена нарратива сопровождается обновлением школьной программы и расширением экспозиций военных музеев [Denton, 2014, p. 143–149]. Не менее значимой иллюстрацией этого процесса можно считать рост численной оценки потерь в Войне сопротивления [Перминова, 2022, с. 364]. В 1980-е, 1990-е и 2000-е гг. память о японской агрессии и наиболее тяжелых эпизодах войны возвращается с новой силой и закрепляется в общественном сознании через национальную систему патриотического воспитания.
От национального унижения к «китайской мечте»
Нарратив виктимизации не является для Китая чем-то новым: понятие «столетия [нацио-нального] унижения» (кит. 百年国耻 байнянь гочи ) – тяжелого периода китайской истории, начавшегося с Опиумных войн середины XIX в., появилось еще в 1915 г. в ответ на «Двадцать одно требование» Японии 10. В дальнейшем к «национальному унижению» апеллировали и представители Гоминьдана, и коммунисты.
В этой связи можно обратиться к одной из публикаций коммунистической пропаганды завершающего этапа гражданской войны. 8 декабря 1946 г., незадолго до годовщины взятия Нанкина японской армией, передовица «Цзефан Жибао» призывает смыть «новый национальный позор» 11, которым является «Договор о дружбе, торговле и мореплавании» правительства Чан Кайши с США. Коммунисты называют «продажу страны» США и уступки, сделанные ранее Гоминьданом японскому агрессору, еще более унизительными, чем принятие «Двадцати одного требования» Японии, и выражают уверенность, что, одержав победу над японским империализмом, китайский народ победит и американский 12.
В подобной риторике виктимизация (выражающаяся в самой отсылке к «унижению», или «позору») сочетается с героическими призывами к мужественному сопротивлению, причем именно виктимизация подогревает патриотические настроения и способствует национальному подъему. Соединение нарративов имеет место и в современном политическом дискурсе. Отсылку к прошлому делали разные поколения руководителей КНР: это и древнее изречение «память о прошлом – учитель будущего» (кит. 前事不忘 后事之师 цяньши буван хоуши чжиши ), звучавшее из уст Цзян Цзэминя, и слова следующего лидера КНР Ху Цзиньтао по случаю возвращения Китаю Гонконга в 1997 г. о том, что Китай, наконец, «смыл вековой национальный позор и осуществил заветное желание китайского народа [о долгожданном воссоединении с бывшей колонией]» 13. Эта же мысль явственно читается в выдвинутой нынешним генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином в 2013 г. стратегической концепции «китайская мечта» (кит. 中国梦 чжунго мэн ), в более широкой формулировке – «мечта о великом возрождении китайской нации» (кит. 中华民族伟大复兴 чжунхуа миньцзу вэйда фусин ). Концепция подразумевает постановку и реализацию комплекса экономических, политических, социокультурных, духовных целей, направленных на развитие государства и формирование чувства национального достоинства. Немаловажно, что ее реализация связана с целями «двух столетий» (кит. 两个一百年 лянгэ ибайнянь ), поставленными ранее Цзян Цзэминем к двум знаменательным датам: столетие основания КПК и столетие основания КНР 14. Таким образом, сохраняется преемственность не только с предыдущими поколениями руководителей, но и с периодом, предшествующим основанию КНР, и «столетие национального унижения» переходит в столетие великих достижений и возрождения.
Героический нарратив не исчез, но видоизменился с течением времени вследствие смены приоритетов компартии. Это имеет значение и для восприятия образа Японии как бывшего агрессора, точнее – определяет роль этого образа. Воспоминания о слабости и отсталости Китая в период войны с западными странами и Японией по-прежнему сохраняют мотивационную роль в стремлении к будущему процветанию страны, подчеркивают ее силу, способность давать отпор врагам и возрождаться: в настоящее время – на пути к «китайской мечте». При этом рассмотренные тенденции особенно актуальны для Японии. Это связано, во-первых, с тем, что, будучи наиболее тесно географически и исторически связанной с Китаем страной, Япония занимает более заметное, чем страны Запада, место в формировании китайской национальной идентичности. Во-вторых, по мнению специалиста по политической психологии международных отношений синолога Питера Гриса, в силу сложившейся в настоящее время геополитической обстановки Япония в наибольшей степени воспринимается Китаем с позиций виктимизации. В случае с США героизация китайской компартией прошлых побед над этой страной (включая Корейскую и Вьетнамскую войны) подогревается осознанием возможности будущего конфликта вокруг Тайваня. Кроме того, современная расстановка сил в мире такова, что Китай практически не уступает США по экономическому и политическому влиянию. Что касается Японии, то за последние десятилетия она несколько уступила свои позиции КНР 15 и не представляет для нее прежней угрозы на мировой арене. Это дает возможность более смело подчеркивать роль Японии в прошлых страданиях китайского народа, открыто заявляя о гневе и жажде мести [Gries, 2004, p. 52–53]. Это также дает возможность правительству КНР активнее использовать проблемы исторического прошлого как средство давления и манипуляции.
Заключение
Война сопротивления японским захватчикам остается для Китая тяжелой страницей памяти о сопротивлении китайского народа внешнему агрессору. При этом Япония воспринимается как часть западного мира, который вторгся в Китай и пытался вместе со странами Запада лишить его территориальной целостности. Вторжение Японии оказалось для Китая особенно болезненным, учитывая его исторически сложившееся отношение к этой стране как к «младшему брату», который воспринял многие элементы китайской культуры.
Естественной реакцией КПК на японскую агрессию было отношение к Японии как к врагу. Однако со свойственным им прагматизмом коммунисты не могли не воспринимать борьбу с японским империализмом в контексте внутренней и мировой революционной борьбы. Наличие таких важнейших для партии участников этой борьбы, как Гоминьдан и США, определило сложность отношения к Японии и даже привело на некоторое время к смягчению оценки японской агрессии, обусловленному конъюнктурными интересами КПК и переключением внимания на более серьезных противников.
Риторика КПК, связанная с Японией, не могла не становиться инструментом ее внутренней и внешней политики. Так, во время Войны сопротивления использование антияпонских настроений помогло сплотить вокруг партии народные массы, что способствовало ее победе в гражданской войне; в послевоенные же десятилетия антияпонская риторика была сознательно приглушена в интересах скорейшего получения Новым Китаем дипломатического признания Запада и налаживания экономического сотрудничества с Японией. После нормализации отношений с Японией эволюция образа бывшего агрессора, при сохранении исходных данных, следовала за развитием идеологии, определялась ее целями и приоритетами. В последние десятилетия антияпонская риторика китайских властей усилилась, что можно связать как с внутренними факторами идеологического характера (опора на память о национальном унижении), которые имеют целый комплекс причин, так и с внешними факторами – изменение международной ситуации и растущая конкуренция Китая и Японии за влияние в регионе и мире вкупе с беспрецедентным ростом экономической и политической мощи Китая.
В целом же в восприятии Японии китайской компартией имеет место двойственность. В военный период Япония была страной, которая, с одной стороны, поддавшись империалистическим амбициям, пыталась разделить Китай на части вместе с западными державами, с другой – оставалась соседом, близким Китаю по духу и культуре. После войны эта двойственность сохранилась и проявилась в тесном экономическом сотрудничестве, которое продолжалось, несмотря на длительное отсутствие дипломатических отношений между двумя странами [Стрельцов, 2019, с. 161]. По мере продвижения политики «реформ и открытости» Дэн Сяопина, а также в последующие десятилетия вплоть до сегодняшнего дня отношения стран продолжают укрепляться несмотря на связанный с Японией образ агрессора. Таким образом, разнонаправленные тенденции сохраняются в векторе развития японо-китайских отношений и на современном этапе.
Список литературы «Война сопротивления японским захватчикам»: формирование образа агрессора у китайской компартии
- Галенович Ю. М. Нация Китая в борьбе против японской агрессии в 1930-х - 1940-х гг. // Общество и государство в Китае. М.: ИВ РАН, 2018. Т. 48, ч. 1. С. 71-81.
- Каткова З. Д., Чудодеев Ю. В. Китай - Япония: любовь или ненависть? К проблеме эволюции социально-психологических и политических стереотипов взаимовосприятия (VII в. н. э. - 30-40-е гг. XX в.). М.: Ин-т востоковедения РАН, КРАФТ+, 2001. 376 с.
- Кульнева П. В. Лингвистические и социокультурные аспекты непонимания между японской и китайской сторонами по вопросам исторического прошлого (на примере извинений государственных лидеров Японии за агрессию в Китае) // Международные отношения и общество. 2021. Т. 3, № 1. С. 16-27.
- Молодякова Э. В. Многоаспектность проблемы святилища Ясукуни // Япония. Ежегодник. М.: АИРО-XXI, 2007. С. 48-68.
- Нелидов В. В. «Китайский шок Никсона» в зеркале японской внутренней политики // Вестник МГИМО-Университета. 2019. № 12 (6). С. 61-77. https://doi.org/10.24833/2071-8160-2019-6- 69-61-77
- Перминова В. А. «Обновление» памяти об антияпонской войне в Китае и ее влияние на отношения между Пекином и Токио в 90-е гг. ХХ века // Общество и государство в Китае. М.: ИВ РАН, 2022. Т. 52. С. 341-370.
- Стрельцов Д. В. Идентичности России и Японии в послевоенный период (1945-1991 гг.) // Япония. Ежегодник. М.: АИРО-XXI, 2016. С. 337-352.
- Стрельцов Д. В. «Шоки Никсона» и их последствия для японской дипломатии // Восток (Oriens). 2019. № 2. С. 158-171. https://doi.org/10.31857/S086919080004622-1
- Coble P. M., Jr. Chiang Kai-shek and the Anti-Japanese Movement in China: Zou Tao-fen and the National Salvation Association, 1931-1937 // The Journal of Asian Studies. 1985 (Feb.). Vol. 44, no. 2. P. 293-310.
- Denton K. A. Exhibiting the Past. Historical Memory and the Politics of Museums in Postsocialist China. Honolulu: Uni. of Hawai’i Press, 2014. 350 p.
- Gries P. H. China’s New Nationalism. Pride, Politics, and Diplomacy. Berkeley, Los Angeles, London: Uni. of California Press, 2004. 215 p.
- Мао Цзэдун. Вэй дунъюань ице лилян чжэнцюй канжи шэнли эр доучжэн [毛泽东。为动员 一切力量争取抗日胜利而斗争]. Борьба за мобилизацию всех сил для победы в антияпонской войне // Мао Цзэдун сюаньцзи [Избранные труды Мао Цзэдуна]. Пекин: Жэньминь чубаньшэ, 1991а. Т. 2. С. 352-358. (на кит. яз.)
- Мао Цзэдун. Канжи юцзи чжаньчжэн дэ чжаньлюэ вэньти [毛泽东。抗日游击战争的战略问 题]. Проблемы стратегии партизанской войны с Японией // Мао Цзэдун сюаньцзи [Избранные труды Мао Цзэдуна]. Пекин: Жэньминь чубаньшэ, 1991б. Т. 2. С. 404-438. (на кит. яз.)
- Мао Цзэдун. Лунь ляньхэ чжэнфу [毛泽东。论联合政府]. О коалиционном правительстве // Мао Цзэдун сюаньцзи [Избранные труды Мао Цзэдуна]. Пекин: Жэньминь чубаньшэ, 1991в. Т. 2. С. 1029-1100. (на кит. яз.)
- Мао Цзэдун. Муцянь канжи тунъи чжаньсянь чжун дэ цэлюэ вэньти [毛泽东。目前抗日统一 战线中的策略问题]. Современные тактические проблемы Объединенного антияпонского фронта // Мао Цзэдун сюаньцзи [Избранные труды Мао Цзэдуна]. Пекин: Жэньминь чубаньшэ, 1991г. Т. 2. С. 744-752. (на кит. яз.)
- Мао Цзэдун. Фаньдуй жибэнь цзиньгун дэ фанчжэнь, баньфа хэ цяньту [毛泽东。反对日本 进攻的方针、办法和前途]. Политика, методы и перспективы противодействия наступлению Японии // Мао Цзэдун сюаньцзи [Избранные труды Мао Цзэдуна]. Пекин: Жэньминь чубаньшэ, 1991д. Т. 2. С. 343-351. (на кит. яз.)
- Мао Цзэдун. Чжунго гунчаньдан цзай канжи шицзи дэ жэньу [毛泽东。中国共产党在抗日时 期的任务]. Задачи Коммунистической партии Китая в период антияпонской борьбы // Мао Цзэдун сюаньцзи [Избранные труды Мао Цзэдуна]. Пекин: Жэньминь чубаньшэ, 1991е. Т. 1. С. 252-270. (на кит. яз.)
- Мао Цзэдун. Мэйдигочжуи ши чжунжи лянго жэньминь дэ гунтун дижэнь [毛泽东。美 帝 国 主 义 是中 日 两 国 人 民 的 共 同 敌 人]. Американский империализм - общий враг китайского и японского народов // Мао Цзэдун вэньцзи [Собрание сочинений Мао Цзэдуна]. Пекин: Жэньминь чубаньшэ, 1999. Т. 8. С. 200-208. (на кит. яз.)