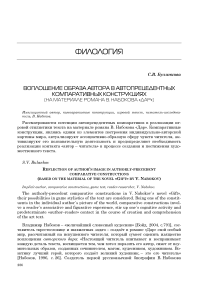Воплощение образа автора в автопрецедентных компаративных конструкциях (на материале романа В. Набокова «Дар»)
Автор: Буланкова Светлана Витальевна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 4 (22), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются потенции автопрецедентных компаративов в реализации игровой стилистики текста на материале романа В. Набокова «Дар». Компаративные конструкции, являясь одним из элементов построения индивидуально-авторской картины мира, актуализируют ассоциативно-образную сферу чувств читателя, активизируют его познавательную деятельность и предопределяют необходимость реализации контакта «автор – читатель» в процессе создания и постижения художественного текста.
Имплицитный автор, компаративные конструкции, игровой текст, читатель-исследователь, в. набоков
Короткий адрес: https://sciup.org/144153607
IDR: 144153607
Текст научной статьи Воплощение образа автора в автопрецедентных компаративных конструкциях (на материале романа В. Набокова «Дар»)
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА В. НАБОКОВА «ДАР»)
Имплицитный автор, компаративные конструкции, игровой текст, читатель-исследователь, В. Набоков.
Рассматриваются потенции автопрецедентных компаративов в реализации игровой стилистики текста на материале романа В. Набокова «Дар». Компаративные конструкции, являясь одним из элементов построения индивидуально-авторской картины мира, актуализируют ассоциативно-образную сферу чувств читателя, активизируют его познавательную деятельность и предопределяют необходимость реализации контакта «автор – читатель» в процессе создания и постижения художественного текста.
S.V. Bulankov
R eflection of author ’ s image in authorly - precedent COMPARATIVE CONSTRUCTIONS
( based on the material of the novel «G ift » by V. N abokov )
Implicit author, comparative constructions, game text, reader-researcher, V. Nabokov.
The authorly-precedent comparative constructions in V. Nabokov`s novel «Gift», their possibilities in game stylistics of the text are considered. Being one of the constituents in the individual author`s picture of the world, comparative constructions involve a reader`s associative and figurative experience, stir up one`s cognitive activity and predeterminate «author–reader» contact in the course of creation and comprehension of the art text.
Владимир Набоков – «величайший словесный кудесник» [Бойд, 2004, с.791], составитель «крестословиц» и шахматных задач – создаёт в романе «Дар» свой особый мир, рассчитанный на искушенного читателя, который сумеет оценить изящество воплощения авторского дара : «Настоящий читатель впитывает и воспринимает каждую деталь текста, восхищается тем, чем хотел поразить его автор, сияет от изумительных образов, созданных сочинителем, магом, кудесником, художником. Воистину лучший герой, которого создаёт великий художник, – это его читатель» [Набоков, 1996, с. 26]. Создатель первой русскоязычной биографии В. Набокова 286
Б. Носик, определяя роман как «одну из признанных вершин русской прозы XX века», пишет: «…“Дар” – удивительно поэтичен и увлекателен. Мы введены здесь в самый процесс сочинительства, видим и результат его, и процесс созидания одновременно, что достигается незаметным “соскальзыванием”, удивительными набоковскими переходами от одной действительности к другой, от мечты к реальности, от одного рассказчика к другому. …Вполне возможно, что набоковская фраза, перенасыщенная материалом и образами, затруднит чтение неопытному читателю, зато, сделав над собою усилие, он будет вознаграждён, раскрыв новые красоты и смыслы» [Носик, 1995, с. 356–357]. Называя «Дар» «не только романом судьбы и интерпретации, но также и романом повествовательного инкогнито», Г. Хасин отмечает необходимость вдумчивого прочтения романа, называя истинного ценителя творчества писателя «перечитывателем»: «Перечитыватель есть тот агент, который получает от автора-рассказчика сообщения, недоступные читателю… Превращая читателя в пе-речитывателя, набоковские авторы-рассказчики стремятся отправить его к началу и заставить оценить не столько поверхностные события сюжета, сколько их собственные сложные и тонкие методы маскировки и намёка – искусство индивидуации под взглядом… Эта виртуозность заключается у Набокова… в театрализации самораскрытия , в спектакле невидимости» [Хасин, 2001, с. 166—167].
Исследователи констатируют факт присутствия концепта «дар» во всех без исключения романах писателя. Вынося его в заглавие своего итогового произведения русскоязычного периода творчества, Владимир Набоков эксплицировал множественность контекстных смыслов: дар как способность, талант, ниспосланный свыше главному герою романа (имя Федор в переводе с древнегреческого означает «дар Бога») и его автору; и дар как прощальный подарок «всему корпусу русской литературы» [Липовецкий, 1997, с. 644]. В 1962 году в предисловии к английскому переводу романа Владимир Набоков, оценивая своё творчество, признаётся: «Это последний роман, который я написал – или когда-нибудь напишу – по-русски. Его героиня… Русская Литература » [Набоков, 1997, с. 49–51].
Отмечая сложность и неординарность композиционного решения «Дара», исследователи сравнивают его композицию с «легендарной змеёй, кусающей свой хвост» [Джонсон, 2011, с. 138]. Нора Букс уточняет: «Пять глав, объединённых героем / рассказчиком в цельное повествование биографического романа, вместе с тем отличаются большой сюжетной и композиционной свободой… Общая композиция «Дара» образует замкнутое кольцо, при котором конец романа стыкуется с началом, фактически аннулируя предшествующее повествование. Восстановление текста осуществляется возвратом к нему, и, перевернув последнюю страницу, читатель вновь оказывается у самого начала романа... Такое ''хождение по кругу'', или ''многократность прочтения'', к которому вынуждает читателя автор , на самом деле оставляет его у ''края тайны'', постижение которой ''возможно только проникновением в текст''» [Букс, 1998, с. 180—181]. Ю.И. Левин в заметках о «Даре» обращает внимание на то, что «роман замыкается, и притом замыкается на себя же; он как бы лишается “внешнего” автора, всё происходит в пределах творчества Ф.К. (Федора Константиновича Годунова-Чердынцева, героя романа. — С.Б. ), на “дар” которого в конечном счете и замкнут роман. «Дар» оказывается завернут сам в себя: он и содержимое, и упаковка (и процесс создания содержимого, и процесс упаковывания)» [Левин, 1998, с. 298–300]. Неоднозначность композиционного решения романа предполагает необходимость выяснения «личности» имплицитного автора.
Предметом нашего внимания являются потенции автопрецедентных компаративных конструкций в реализации игровой стилистики романа на примере вопло- щения образа автора. В рамках заявленной проблемы представляется целесообразным сделать некоторые терминологические уточнения. Ю.Н. Караулов [Караулов, 1987, с. 216–237] в качестве определяющих характеристик прецедентных текстов отмечал их хрестоматийность, общеизвестность, эмоциональную и познавательную ценность, реинтерпретируемость. В соответствии с уровнями сознания языковой личности исследователи (Ю.Е. Прохоров, Н.В. Петрова) выделяют уровни прецедентности (автопрецедентный, социумно-прецедентный, национально-прецедентный и универсально-прецедентный), которым характерны свои прецедентные феномены. Так, автопрецедентому уровню соответствуют автопрецеден-тные феномены (автопрецеденты) [Петрова, 2004], представляющие собой «отражение в сознании индивида некоторых феноменов окружающего мира, обладающих особым познавательным, эмоциональным, аксиологическим значением для данной личности, связанных с особыми индивидуальными представлениями, включенными в неповторимые ассоциативные ряды» [Прохоров, 2004]. На этом основании считаем возможным предположить, что одним из автопрецедентных феноменов, маркирующих имплицитность автора в романе «Дар», является такое важнейшее языковое средство создания образности, как сравнение (компарация).
Репертуар способов выражения сравнения в романе обширен и представлен разнообразными формами, среди которых наиболее активно используются следующие: суффиксы имён прилагательных - ист-, -оват- ; аффиксы наречий по-...-ому, по-...ски ; творительный сравнения; предложно-падежные сочетания (с предлогами вроде, наподобие ); сравнительные обороты и сравнительные предложения (присоединительные конструкции); сложные предложения с придаточными сравнительными, вводимыми союзами как, словно, будто, точно, как будто , частицей как бы , употребляемой для условно-предположительного сравнения; несогласованные определения (выраженные родительным сравнения, включающим предлог с - с видом кого-то ); согласованные определения (сравнения-эпитеты, легко трансформирующиеся в сравнительные обороты); придаточные определительные с дополнительным акцентом сравнения; лексемы со значением сравнения — подобный, похожий ; сложные прилагательные, вторая часть которых является стандартизированным показателем сравнения - видный, -образный или указывает одновременно на объект и основание сравнения -лицый, -головый ; предикат сравнивать, прямо указывающий на компаративную семантику высказывания [Камышова, 2006; Шевченко, 2003].
Рассмотрим на практике некоторые примеры использования автопрецедентных компаративных конструкций как изобразительных приемов, мотивирующих вдумчивое восприятие «перечитывателем» особенностей воплощения образа автора в романе. Фиксируя (вслед за Ю.И. Левиным) вариативность употребления личных форм повествования в «Даре», предполагаем, что «свобода и изощренность в использовании категории лица» [Левин, 1998, с. 287] позволяет отождествлять имплицитного автора с его героем. Ностальгические чувства Ф.К. Годунова-Чердын-цева, вынужденного находиться вдали от Родины, выражены при помощи компаративных конструкций с союзом к а к: «Не следует ли раз навсегда отказаться от всякой тоски по родине, от всякой родины, кроме той, которая со мной, во мне, пристала, как серебро морского песка к коже подошв» [Набоков, 1990, с. 157]; «он давно хотел как-нибудь выразить, что чувство России у него в ногах, что он мог бы пятками ощупать и узнать её всю, как слепой ладонями» [Там же, с. 58]. Неожиданность сравнений на основе ассоциативной связи внутреннего состояния героя (тоска по Родине, чувство Родины) и конкретных тактильных ощущений (ощупать и узнать её всю), уточнённых ярким образом слепого человека, познающего прикосновением окружающий его мир, помогает читателю почувствовать степень близости России, осязаемую автором и его персонажем практически. Различие типов повествования – 1-го и 3-го лица (со мной, во мне и он, у него), предполагает наличие нескольких источников высказываний. При этом общность семантического поля автопрецедентов (единый ассоциативный ряд — пристала... к коже подошв, чувство России... в ногах, пятками ощупать… её) позволяет соотнести персонажа с имплицитным автором.
Каждый набоковский текст, по определению Г.Ф. Рахимкуловой, – это «сложная игровая система, все элементы которой ориентированы на то, чтобы, выражая игровое отношение писателя к жизни и искусству, вовлечь читателя в активные игровые отношения и с творцом, и с созданным им текстом» [Рахимкулова, 2003, с. 40]. Важнейшим свойством всего повествовательного массива игрового текста цитируемый автор считает его интертекстуальность, которая и предопределяет возможность прямого или косвенного вовлечения в повествовательную структуру игрового текста всей предшествующей художественной словесности; игра с читателем в данном случае зависит от способности последнего проявить «предельную чувствительность… к различного вида языковым трюкам, отстроенным на игру аспектам текста, с которыми он, по существу, вступает в диалогические отношения… От читателя ожидается, что он сумеет выявить, вычленить, разгадать, освоить максимально большое число содержащихся в тексте лингвистических тайн» [Там же, с. 65, 258, 409]. Интертекстуальный аспект рассмотрения романа «Дар» предполагает выявление в его составе «чужих» дискурсов, при этом художественная коммуникация, стилистический эффект которой во многом связан с подтекстовой информацией, тяготеет к завуалированности, имплицитности сигналов интертекстуальности, что, безусловно, оставляет широкое интерпретационное пространство для адресата [Баженова, 2003, с. 106]. Интертекстуальные элементы в составе корпуса романа разнообразны: Набоков использует аллюзии, реминисценции, пародирование другого текста, точечное цитирование (упоминая в своем тексте имена литературных персонажей, названия произведений).
Интерпретируя набоковский текст, читатель-исследователь постигает «содержательные глубины произведения именно через анализ воплощающих их образов» [Кухаренко, 1978, с. 113]. Обращаясь к полотну произведения, отметим, что Федор Годунов-Чердынцев свои размышления о чувстве первой юношеской влюбленности реминисцентно соотносит с русской классической литературой. Восстанавливая в памяти комнату возлюбленной, он вспоминает: «В её спальне был маленький портрет царской семьи, и пахло по-тургеневски гелиотропом. Я возвращался за полночь» [Набоков, 1990, с. 134—135]. Предикат пахло, являясь компарантом указанной конструкции, сопоставляется с компаратором по-тургеневски, выраженным наречием, при эксплицитно заявленном аспекте сравнения, обозначенном субстантивом в форме творительного падежа (гелиотропом). Посредством словообразовательного анализа системного деривата по-тургеневски определяем в качестве производящего его элемента субстантив Тургенев, от которого при помощи аффиксальных дериваторов (по-...ски) и было образовано наречие, семантически соотносящееся с однокоренным существительным (‘как у Тургенева’) и являющееся компаратором приведенной выше конструкции; это, в свою очередь, предполагает возможность его трансформации в сравнительный оборот с союзом к а к (пахло гелиотропом, как в произведении Тургенева). Учитывая в качестве маркирующего элемента компаративной конструкции ее основу — запах гелиотропа, чи- татель-эрудит (по мнению А. Долинина) обратится к другому роману И.С. Тургенева – «Дым», в котором именно это садовое растение своим приятным и знакомым ароматом напоминает герою о его первой любви [цит. по: Набоков, 2009, с. 685]. Предлагая вдумчивому читателю ключ к очередной лингвистической тайне, автор, повествуя о встречах героя с представителями русской (преимущественно литературной) эмиграции, обращается именно к тургеневскому «Дыму», включая его точечным цитированием в состав компаративной конструкции с союзом к а к: Из русского гастрономического магазина вышел инженер Корн, опасливо суя пакетик в портфель, прижатый к груди, а в поперечной улице (как стечение людей во сне или в последней главе «Дыма») мелькнула Марианна Николаевна Щёголева с какой-то другой дамой… Федор Константинович добрался до книжной лавки [Набоков, 1990, с. 149–150]. Имплицируя основу компаратива, но при этом вербализуя (посредством контекстной синонимии) в объекте сравнения ряд образов (‘стечение людей во сне’ и ‘стечение людей в последней главе «Дыма»’), автор предлагает вдумчивому читателю-исследователю, с одной стороны, использовать личностные ассоциации (апеллируя к естественному для каждого процессу сновидения), а с другой – актуализировать читательский опыт (детально конкретизируя претекст).
Обобщая сказанное, отметим, что автопрецедентные компаративные конструкции, являясь формой воплощения интенций автора художественного текста, актуализируют ассоциативно-образную картину чувств читателя за счет вызываемых ими смысловых связей, активизируют его познавательную деятельность и предопределяют необходимость реализации контакта «автор – читатель» в процессе создания и постижения игрового текста. Конструируя игровой текст и активно экспериментируя с художественными ресурсами языка, автор «Дара» вступает с читателем в диалогические отношения, привлекая его к сотворчеству, устанавливая с ним особые – игровые – отношения и предопределяя ему роль исследователя, вдумчиво постигающего смыслы текста. Читатель-исследователь, отправляясь в путешествие по лабиринту набоковской фантазии вслед за создателем романа-мистификации, непременно сталкивается с необходимостью постоянной идентификации повествователя; при этом набоковские маски , сменяя друг друга, вовлекают первооткрывателя в интереснейшую игру-распознавание, участие в которой и составляет суть интеллектуального наслаждения, дарованного ему автором.