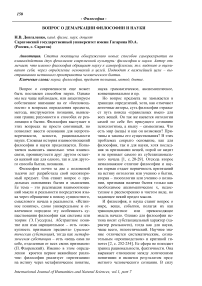Вопрос о демаркации философии и науки
Автор: Довгаленко Н.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1-7 (1), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена обнаружению новых способов самораскрытия во взаимодействии двух феноменов современной культуры: философии и науки. Автор отмечает, что именно философия обращает науку к саморефлексии, т.е. видению и оцениванию себя, через определение оснований и целей. Подводит к важнейшей цели - выстраиванию истинного пространства человеческого бытия.
Наука, философия, предмет познания, метод, бытие
Короткий адрес: https://sciup.org/170184206
IDR: 170184206
Текст научной статьи Вопрос о демаркации философии и науки
Вопрос о современности еще может быть поставлен способом науки. Однако мы все чаще наблюдаем, или акцентируем собственное внимание на ее «беспомощности» в вопросах определения предмета, метода, инструментов познания, выявлении границ разумности и способах ее реализации в бытии. Философия выступает в этих вопросах не просто союзницей, но позволяет ввести основания для непротиворечивости, ясности, рациональности науки. Cложная история взаимоотношений философии и науки продолжается. Попытаемся выяснить насколько тема взаимосвязи, проникнутости друг другом остается важной как для одного, так и для другого способа бытия, познания.
Философия почти за две с половиной тысячи лет разработала свой неповторимый предмет. Она ставит вопрос о предельных основаниях бытия и мышления. Ее тема – это реализация взаимоотношений мысли и реальности посредством языка через обращение к поиску сущностного, смыслового начала в реальности. «Истинное понятие», слово универсальное и отвлеченное породило эту особенность существования философии как системы или теории (Э. Гуссерль). Абстрактное понятие или имя нарицательное – есть «совокупность признаков предмета» (грамматическая субстанция), тогда как метафизическая субстанция – есть «вещь сама по себе, отделенная от всех своих признаков» (П. Флоренский). Именно в этом определении кроется первое важнейшее различие: философия реализует «притязания» на истину через метафизическое понятие, наука грамматическое, аксиоматическое, конвенциональное и пр.
Но вопрос предмета не замыкается в границах определений, хотя, как отмечают античные авторы, суть философии отражает путь поиска «правильных имен» для всех вещей. Он так же касается онтологии самой по себе без присущего сознанию психологизма, а языку – символизма. Что есть мир (вещь) и как он возможен? Причины и законы его существования? В этих проблемах сокрыто основание, как для философии, так и для науки, хотя последняя за признаками вещей, порой не видит и не признает самого их субстанционального начала [1, с. 20-29]. Отсюда второе немаловажное отличие философии и науки: первая отдает первичность притязаний на истину онтологии или учению о бытии, вторая – гносеологии или учению о познании, признавая наличие бытия только как необходимое аксиоматическое х, недоступное к рассмотрению в чистом виде, но задающее некий предел мысли.
И философия, и наука ставят вопрос о мире, вещи, событии, полагая их как трансцендентное или превосходящее мысль начало. Однако для философии истина носит субстанциальный характер (характер реальности), тогда как для науки, чаще всего, гипотетический. Научное знание отличается систематическим, сознательным «производством» и критикой гипотез [2, с. 252-254]. Ее сфера не покидает границ рациональности, фактичности. Она выражает отношение между логическими понятиями и является результатом предметного человеческого сознания. В силу этого, её инструментом оказывается вербальный язык, язык символов и знаков. А предметом – не сама вещь, а опосредованное логическое понятие, установленное в собственных пределах непротиворечивости. Более того, в науке логическое понятие стало возможно подменять математическим, хотя вопрос о полном сведении логики к математике (и обратно) так и остался пока открытым.
Третье отличие философии и науки можно выразить как устремление науки к миру объектному, «внешнему» (препятствием к этому не являются даже результаты неклассической научной революции). Очень доступно данную мысль выражает П. Флоренский в своей книге «Тайна имени», где выделяет два инварианта бытия: объектности в виде числа и субъектности в виде имени (слова). «Оба инварианта коренятся в форме, которая есть одновременно и вещь, и личность, или, точнее, начало и вещи, и личности; разумею идею, «источник бытия и познания» по Платону» [3, с. 104]. Таким образом, объ-ектность порождает количество и качество, пространство и время или мир внешний, а имя, в свою очередь: усию и ипостась, стихийность и долг или бытие внутреннее, личностное. Наука устремлена к внешнему, её цель описание, констатация фактичности через заданные онтологические категории – количество, качество…, её высшее выражение – число. Мир субъектного для неё закрыт, ибо она не решает вопрос тайны личности, она решает вопрос субъективности в чисто гносеологическом, операциональном виде. Тогда, когда наука, превосходя число, раскрывает идею, она становится метанаукой (метафизикой).
Новая область знания – философия науки, которая была сознательно провозглашена таковой лишь при развитии позитивизма, вынуждена была «обернуться» к основаниям и границам научности, и задать вопрос о ее необходимости и укорененности в бытии. Именно здесь философия продемонстрировала свои притязания на предмет науки, ибо «на историческом пути человек никогда не найдет, что есть история, так же как математик когда-либо на математическом пути, т.е. через свою науку, и значит в конце концов в математических формулах не может показать, что есть математическое» [5, с. 103]. Осуществлять поиск предмета, пытаться его мыслить, а не «препарировать», способна только философия. Тогда как наука, ставя перед собой «готовый» предмет, развивает в основном преимущества самого подхода: методологию, рациональность, гипотетичность, критичность и пр.
В настоящее время предмет и метод познания получили глубинное размежевание. Именно разумность нацеливает сознание на «предмет», отыскивает его онтологическую подоплеку, ставит неудобные вопросы о возникновении и сущности. Рациональность же более созерцает «себя». Ее кредо – развивать способ, каким можно подойти к предмету, обнаружить инструменты для пристального, детального рас- смотрения, сотворить новый дискурс. Сегодня рациональность совершенно потеряла свою смысловую связанность с разумностью, которая единственная обращает человека к размышлениям о сущности научного предмета, а, кроме того, и самому пространству жизни, в котором они пребывают, о ценностях или целях познания. «В явном выражении разум является темой дисциплин о познании (а именно об истинном и подлинном разумном познании), об истинной и подлинной оценке (подлинные ценности как ценности разума), об этическом поступке (истинно добрый поступок, действие из практического разума); при этом «разум» выступает как титульное обозначение «абсолютных», «вечных», «надвременных», «безусловно» значимых идей и идеалов» [6, с. 24].
Возвращение к разумности есть единственный истинный путь науки, встающей на поиск подлинности и человечности. И наука не должна забывать этих «высоких» целей не потому, что они присутствуют аксиоматически, а потому что их требует «человеческое» в человеке. «Существо… областей: история, искусство, поэзия, язык, природа, человек, бог – остаются не- доступными для наук» [5, с. 103] – но без их предмета науки провалились бы в пустоту. Постепенно утратили бы как собственный смысл, так и назначение.
Именно философия нацеливает науку на саморефлексию. Обращает к оцениванию себя через определение оснований, целей и идеалов. Подводит к важнейшей мысли – незабвению и воспитанию в человеке разумного начала. В современной ситуации это необходимо, так же как и в любой иной, ибо «человечность» определяет не только горизонты научного, но и жизненного мира вообще. О возвращении науки к «вещам», об уходе от формальных установок сознания еще в середине XX в. настоятельно писал знаменитый немецкий философ Э. Гуссерль. Проект феноменологии продемонстрировал насколько тяжело науке совершить разворот к иной точке «взгляда», поменять интенцию, схватить подвижность, жизненное превращение реальности. Однако путь в этом направлении для нее необходим, если она еще претендует на то, чтобы остаться в реальности современной культуры как ведущая познавательная, социальная, техникотехнологическая сила.
Список литературы Вопрос о демаркации философии и науки
- Бунге М. Философия физики. - М.: Прогресс, 1975. - 349 с.
- Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. - М.: Эдиториал УРСС, 2002. - 384 с.
- Флоренский П.А. Тайна имени. - М.: Мартин. - 2007. - 384 с.
- Рассел Б. Проблемы философии / Избранные труды. - Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2007. - 260 с.
- Хайдеггер М. Что зовется мышлением? - М.: Территория будущего, 2007. - 351 с.
- Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. - СПб.: Владимир Даль, 2004. - 440 с.