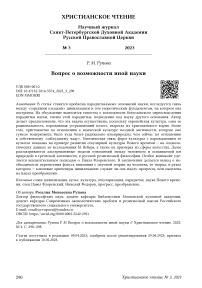Вопрос о возможности иной науки
Автор: Рупова Р.М.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Историософия
Статья в выпуске: 3 (106), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится проблема парадигмальных оснований науки, исследуется связь между «горькими плодами» цивилизации и тем теоретическим фундаментом, на котором она построена. На обсуждение выносится гипотеза о возможности богословского переосмысления парадигмы науки, смены этой парадигмы, подведения под науку другого основания. Автор делает предположение, что эта задача осуществима, поскольку европейская культура, сама ее рациональность, породившая устрашающий колосс, выросла из христианского корня. Более того, христианство по отношению к языческой культуре поздней античности, которую оно сумело воцерковить, было куда более радикально иноприродно, чем сейчас по отношению к собственному «заблудшему чаду». Генетическая связь форм культуры с порождающим ее культом показана на примере развития секулярной культуры Нового времени - на социологических данных из исследования М. Вебера, а также на примерах из сферы искусства. Далее рассматриваются альтернативные модели отношений между человеком и осваиваемой им природой: в греческой античности, в русской религиозной философии. Особое внимание уделяется концептуальным подходам о. Павла Флоренского. В заключении делается вывод о необходимости перенесения фокуса внимания с научной теории на человека, ее творца, в руках которого - ключевые ориентиры цивилизации: служит ли она идолу прогресса, или нацелена на идеал преображения.
Цивилизация, культ, культура, секуляризация, парадигма, наука нового времени, отец павел флоренский, николай федоров, прогресс, преображение
Короткий адрес: https://sciup.org/140301643
IDR: 140301643 | УДК: 008+001:2 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_3_290
Текст научной статьи Вопрос о возможности иной науки
Культура, которая растет из православного духовного опыта, всегда ставит вопрос о возможности иной науки, иной праксеологии и альтернативной цивилизации.
В. Н. Катасонов
Железная поступь и информационные потоки техногенной цивилизации, ее экспоненциальное развитие, захват всей социально-политической сферы, вторжение в зоны личного бытия, включая пренатальный период, и всюду приносимые ею с собой реальные угрозы — все это говорит о том, что назрела необходимость глубокого богословского анализа самих оснований этой цивилизации, а именно концептуальных основ науки, породившей этот колосс. Критика новоевропейской науки уже не раз звучала из уст крупнейших ученых XIX и ХХ вв. — как в России, так и на Западе. Современная задача состоит в том, чтобы предпринять усилие по пересмотру самих оснований науки, подобно тому как в первые века новой эры была переориентирована античная культура на «христианские рельсы». Эта задача в ее полном объеме выглядит довольно утопично. При этом она представляется безальтернативной, так как автоматическая линия бесчеловечной цивилизации, будучи запущенной, уже сама производит информационно-техническую продукцию, порождающую социально-политические феномены, которые ее же разрушают. Остановить этот маховик в его рабочем режиме невозможно, да и опасно. Но вполне реализуема и содержательна задача богословского переосмысления парадигмы науки, смены этой парадигмы, подведения под нее другого фундамента. Это осуществимо, поскольку европейская культура, сама ее рациональность, породившая устрашающий колосс, выросла из христианского корня. Более того, христианство по отношению к языческой культуре поздней античности было куда более радикально иноприродно («крест — эллинам безумие», 1 Кор 1:23), чем сейчас по отношению к собственному «заблудшему чаду». Протоиерей Георгий Флоровский определенно утверждал: «По существу, наше отношение к „культуре“ есть… богословская позиция от начала до конца» [Флоровский, 2002, 656]. Наука, являющаяся составной частью культуры, однозначно подлежит богословскому осмыслению.
Путь западной новоевропейской цивилизации, начавшийся с процессов десакрализации, демифологизации и секуляризации культуры в эпоху Ренессанса, стремительно прогрессировал в степени своего отчуждения от природы как живого. При этом происходило все более разнообразное и плотное вторжение в нее — но с единственной целью потребления, выкачивания ее ресурсов. Этот факт имел свое религиозное основание — и это не идеологическая схема, а плод внимательного изучения западного ученого-социолога, который отмечал «несомненное преобладание протестантов среди владельцев капитала и предпринимателей, а равно среди высших квалифицированных слоев рабочих, и прежде всего среди высшего технического и коммерческого персонала современных предприятий» [Вебер, 2020, 5]. Такое соотношение наблюдалось «почти повсеместно, где капитализм в пору своего расцвета мог беспрепятственно совершать необходимые ему социальные и профессиональные преобразования; и чем интенсивнее шел этот процесс, тем отчетливее конфессиональная статистика отражает упомянутое явление» [Вебер, 2020, 5].
Отметим неочевидную на первый взгляд, но знаковую связь между формами искусства, характерными именно для протестантских стран, и развившейся там наукой. Речь идет об искусстве гравюры. Для этого жанра, как и для самого протестантизма, характерно резкое отторжение от всякой чувственности, напоминающей о католической масляной живописи: «гравюрная линия хочет начисто освободиться от привкуса чувственной данности. Если масляная живопись есть проявление чувственности, то гравюра опирается на рассудочность, — конструируя образ предмета из элементов, не имеющих с элементами предмета ничего общего, из комбинаций рассудочных „да“ и „нет“» [Флоренский, 1995б, 478]. В этом видится явное предвестие цифровых информационных систем цивилизации, построенных исключительно на комбинациях единиц и нулей, переведших на этот двумерный язык всю полноту многомерного и многоцветного мира.
Этот пример иллюстрирует генетическую связь культа и культуры, на которую указывал свящ. Павел Флоренский: «cultura есть то, что имеет развиться из cultus, прорастание зерна религии, горчичное древо, разросшееся из семени веры» [Флоренский, 1995a, 549]. А в словах митр. Каллиста (Уэра) устанавливается еще более прямая и непосредственная зависимость между образом веры и социокультурными формами: «наша частная жизнь, личные отношения и все наши планы по построению христианского общества зависят от правильного понимания тринитарного богословия» [Каллист Уэр, 2001, 216].
Но можно ли найти в реальности иные подходы к постижению или инструментальнотехническому освоению природы? Рассмотрим некоторые из них.
Среди мыслителей прошлого столетия, которые, наблюдая его кризиснокатастрофический характер, поставили перед собой задачу определения причин целого комплекса критических проблем, был М. Хайдеггер (1889–1976). В этом ракурсе он осуществил анализ техники, придя к выводу, что ее сущность «вовсе не есть что-то техническое» [Хайдеггер, 1993, 221]. Этимологические корни слова «техника» он отыскивает в древнегреческом понятии τέχνη, имевшем существенно более широкое значение, связанное с ремесленным трудом, а также с художеством во всех его формах. Это понятие в контексте античной культуры оказывается близким к таким сферам творчества, как поэзия — no^oig, и знание — Ёпют^цп. Процессы секуляризации и демифологизации, набравшие обороты в эпоху европейского Ренессанса, привели к деформации многих ключевых понятий, в том числе такого важного, как T£xvn. И не только понятий — изменилось и само отношение человека к окружающему миру. В Новое время на смену возделыванию природы, бывшему одновременно внимательной заботой о ней, пришло производство, в котором природа воспринималась как определенный этап производственного цикла, обеспечивающий поставку того или иного сырья или энергии. М. Хайдеггер, обозначая такое грабительское отношение к природе, вводит специальный термин: «постав». Потребительское отношение распространилось и на сферу естествознания, которое ушло далеко от пифагорейских созерцаний мировой гармонии. Известно, что научное изыскание, разгадывание тайн природы путем организации экспериментальных исследований стало более походить на пытку, когда законы материального мира вырываются «на дознании» в жестких условиях опытов. На место живой природы была поставлена абстрактная модель, представлявшая собой систему действующих сил, подлежащих математическому исчислению. Такое выхолащивание живого из исследуемого природного объекта привело к постепенному исчезновению образа из системы знаний, ее обезличиванию. И, как закономерное следствие, — к утрате наглядности. Особенно ярко это проявилось в так называемой планетарной модели атома Э. Резерфорда, где электроны, вращающиеся вокруг ядра, уподоблялись планетам Солнечной системы, вращающимся вокруг Солнца, — подобное научное созерцание породило даже отклик в русской поэзии Серебряного века, у В. Брюсова:
Быть может, эти электроны — Миры, где пять материков, Искусства, знанья, войны, троны И память сорока веков.
Еще, быть может, каждый атом — Вселенная, где сто планет;
Там всё, что здесь, в объеме сжатом, Но также то, чего здесь нет.
На смену этой модели пришла уточняющая квантовая модель Н. Бора, которая также не была последней. Но в каждой следующей уменьшался эффект наглядности при возрастании уровня математизации в описании движения элементарных частиц. Факт присутствия электронов на квантовых энергетических уровнях стал описываться вероятностными уравнениями. Таким образом произошло смещение от корпускулярной к информационной модели материи. Понятно, что из этого уровня развития науки возвращение к τέχνη, в соответствии с призывом М. Хайдеггера, видится малореальным.
Интересно и неожиданно видение науки в отечественной религиозной философии, выросшей из корня православия, хотя и подвергшейся прививке западноевропейской интеллектуальной культуры. В. С. Соловьев (1853–1900) в приложении к своему последнему сочинению «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории», названном им «Краткая повесть об антихристе», дает абрис грядущей цивилизации, ставшей питательной почвой для финальных апостасийных событий мировой истории. Для общества будущего характерно «^решительное падение теоретического материализма. Представление о вселенной как о системе пляшущих атомов и о жизни как результате механического накопления мельчайших изменений вещества — таким представлением не удовлетворяется более ни один мыслящий ум. Человечество навсегда переросло эту ступень философского младенчества» [Соловьев, 1990б, 739-740]. Автор указывает на смену научной парадигмы — и при этом не делает каких-либо предположений о ее новом формате. Судя по всему, это представляется не столь важным, по сравнению с другой, бедственной характеристикой: «человечество™ также переросло и младенческую способность наивной, безотчетной веры» [Соловьев, 1990б, 739-740]. Вл. Соловьев в другой своей поздней работе — философском эссе «Тайна прогресса» — в метафорической форме предлагает спасительный путь для отечественной культуры, оказавшейся на берегу стремительного и неудержимого цивилизационного потока. Древнее отечественное предание в непривлекательных для современности формах автор уподобляет ветхой и неприглядной старухе, просящей заблудившегося в дебрях жизненного леса охотника перенести ее через бурный поток. Из жалости и снисхождения к ее немощам сбившийся с пути человек пересекает с ней разлившийся ручей — а на другом берегу его ноша преображается, став прекрасной девицей. Иными словами, требуется подвиг веры и труд, для того чтобы отечественную духовную традицию, на которой построена культура, перенести через мутные воды прогресса в чудесную страну ее преображения. «Спасающий спасется. Вот тайна прогресса — другой нет и не будет» [Соловьев, 1990а, 557].
Особым был подход к науке как инструменту освоения природы у Н. Ф. Федорова (1829–1903). Его космический проект «философия общего дела» имел в качестве ключевой идеи воскрешение всех усопших предков — в этом его автор видел исполнение человечеством «дела Христова». Наука и связанная с ней техника играли в проекте чрезвычайную роль — силы, позволяющей осуществить регуляцию природы и, главное, исполнить саму задачу воскрешения мертвых. Российский ученый В. Н. Катасонов называет этот проект «предельным выражением технократической утопии» [Катасонов, 2005а, 218]. Объединение человечества вокруг единой грандиозной творческой задачи виделось Н. Федорову как внехрамовая литургия. Христианское по своим ориентирам учение было, по сути, дерзким самоуправством в Божием мире, в котором тайна жизни, смерти и воскресения принадлежит его Создателю, а не твари.
Федоров был человеком энциклопедической учености, гениальным самоучкой — его труды содержат глубокие прозрения о сущности цивилизации, транжирящей свой ресурс ради производства предметов роскоши, удовлетворения похотей плоти и служения женским прихотям. Нравственный потенциал его мысли очень высок. В силу этого не только его великие современники, но и люди XXI в. — ученые и представители творческих профессий — считают себя его последователями, изучают его наследие, издают его труды и посвященные ему исследования [Московский
Сократ, 2018]. Но при том, что Н.Ф. Федоров постоянно поминал Бога-Троицу, совершение задач всемирной истории и эсхатологии передавалось им в человеческое ведение.
Большой интерес представляют собой концептуальные основания миросозерцания свящ. Павла Флоренского (1882–1937). Он подверг взыскательной критике все стадии формирования культуры Нового времени, начиная с зарождающегося Ренессанса — а именно прямую перспективу в западной живописи, которая отошла от символизма канонической иконы, затем показал трансформацию этой живописи в формы искусства протестантских стран, связанного с философией европейского рационализма, и наконец — немецкую идеалистическую философию и, прежде всего, кантианство как порождение протестантизма. Очевидно, что его собственное миросозерцание покоилось на совершенно иных основаниях.
Отец Павел не желал выступать автором какого-либо особого философского учения, но свой труд 20-х гг. «У водоразделов мысли» он снабдил подзаголовком «Черты конкретной метафизики». В соответствии с этим подходом процесс постижения реальности для него представляет собой уникальное сочетание вчувствования в нее и, параллельно, рационального исследования. В этом процессе ключевую роль играет понятие символа, центральное для всего мировосприятия о. Павла.
Можно увидеть некоторые характерные черты конкретной метафизики:
-
— преобладающее внимание к деталям, к мелочам, к подробностям, описывающим изучаемое явление в его индивидуальности;
-
— отвращение к отвлеченным, общим схемам и суждениям;
-
— описание духовных предметов языком чувственных определений.
Последняя из перечисленных черт является характеристикой, в целом, научного стиля о. Павла Флоренского. В работе «Философия культа» он рассматривает вопрос о технике, дает ее критический анализ и выдвигает идею ее возникновения из культа, утратившего в ней свой религиозный смысл.
В его отношении к математике также прослеживается желание преодолеть ее абстрактно-рационалистический характер. На протяжении жизни отношение о. Павла к ней проходило разные этапы, трансформировалось, став для него символическим описанием действительности, попав, таким образом, в сферу важнейших для о. Павла тем — тему символа (см.: [Флоренский, 1992, 153]). Математика, по о. П. Флоренскому, напрямую касается человеческого опыта посредством пространства — его структурноформообразующих характеристик. Несмотря на идеалистические вкусы и метафизический склад ума, он всегда был также первоклассным инженером-конструктором (и инженером-химиком). Его интересовали проблемы геометрической символики мнимых и комплексных величин. Впоследствии, в 1918 г., он соединит их с проблемой неевклидова пространства. Рассматривая эту проблематику, он осуществил своеобразный синтез геометрии макро- и микрофизики. Так рождается его труд «О мнимостях в геометрии» 1922 г. Одной из точек пересечения богословия с естествознанием и философией в миросозерцании о. Павла была проблема антиномий. Тема антиномий, востребованная современной богословской наукой (см.: [Горячев, 2022б]), приложимая к самым разным сторонам реальности, затронула также вопрос о принципах устроения мира: заложен ли в нем закон прерывности или непрерывности? На эту тему размышляли многие мыслители до о. П. Флоренского и пришли к противоположным выводам. В науке сформировался некий lex continualis (закон непрерывности), разделяемый многими учеными, так что за гранью рассмотрения оказались многие вопросы, требующие иного подхода. Идея непрерывности пустила глубокие корни в биологии, в учении об эволюционизме, в геологии, в палеонтологии. Начиная с Бюф-фона и Дарвина история науки представляла собой картину выраженной односторонности, бывшей следствием грандиозной подмены подлинной экспериментальноумозрительной науки — гипертрофированной и директивной идеей непрерывности, превратившейся в безальтернативную предпосылку для многих ученых. Таким образом, идея непрерывности проникла во все сферы науки от механики до теологии.
Отец Павел решительно критиковал идею непрерывности, распространившуюся на все дисциплины, обосновывая противоположную ей дискретность как более универсальное явление: «даже в непрерывном по преимуществу пространстве… даже в геометрических образованиях находит себе место прерывность» [Флоренский, 1994, 76]. Очевидно, что вне идеи прерывности совершенно не могла бы существовать квантовая теория и, следовательно, вся современная физика и связанная с нею натурфилософия. У о. Павла идея прерывности является внутренним формообразующим принципом как всей библейской космогонии, так и христианской догматики. Идея же непрерывности, как он мыслил, напротив, есть идея глубоко консервативная и даже реакционная, настоящий бич философии и подлинной диалектики.
В то же время, дерзая на диалог с о. Павлом по этому вопросу, можно утверждать следующее: открытие корпускулярно-волнового дуализма в физике микромира на рубеже XIX и XX вв. позволяет увидеть дискретные (корпускулярные) и непрерывные (волновые) свойства вещества как взаимо-дополнительные. Из этого следует, что отдавать предпочтение только одной модели реальности — значит лишать ее полноты. Кроме того, существуют целые сферы науки, где преобладают сценарии непрерывности, например в биологии, когда речь идет о росте и развитии живых организмов.
Давая оценку творчеству о. П. Флоренского, можно сказать, что он производил оцерковление культуры, организуя как бы некую дискуссионную площадку в своем сознании. Там приводились в соприкосновение и вовлекались им в орбиту философского дискурса, с одной стороны — христианские ценности: иконография и церковная гимнография, богослужение и аскетические тексты; с другой стороны — философская мысль, математика и естествознание привлекались им для испытания в диалоге с живой верой и учением Церкви. «И пусть тысячу раз мы решим, что те или иные суждения философа могут быть признаны лишь своемыслием и произволом, а вовсе не голосом соборного церковного опыта; но, выясняя это… мысль наша пребывала в области™ всех богатств православной церковности — и никто другой, как именно о. Павел властно направил ее туда. Этого за ним никто уже не оспорит» [Хоружий, 1999, 142].
Из осуществленного нами рассмотрения следует, что содержательные и критические по отношению к сложившимся в европейском естествознании формам подходы — ни у Хайдеггера, ни в русской религиозной философии — не могут быть положены в основание альтернативной науки.
В своей лекции-речи «Прогресс и преображение», сказанной в МДА 3 сентября 1914 г., сщмч. Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский, дал весьма жесткую негативную оценку западной цивилизации с ее служением идолу прогресса: «идея прогресса есть приспособление к человеческой жизни общего принципа эволюции, а эволюционная теория есть узаконение борьбы за существование. <…> Колесница прогресса едет по трупам и оставляет позади себя кровавый след» [Иларион Троицкий,
-
2004] . И далее: «Церковь остается верна своему идеалу преображения и в век пара, электричества и авиации» [Иларион Троицкий, 2004].
Заключение. Приведем полностью вдохновившую данную работу мысль, поставленную в качестве ее эпиграфа: «Культура, которая растет из православного духовного опыта, всегда выступает коррелятом и основанием критики современной технологической культуры. И более того: всегда ставит вопрос о возможности иной науки, иной праксеологии и альтернативной цивилизации. Но это уже предмет особого большого разговора» [Катасонов, 2005а, 223]. Этот разговор уже начат, и не нами. Интуиции упомянутых выше ученых, их научный поиск иных оснований науки имеет большую ценность. Тем не менее искать эквивалент православному миросозерцанию в формулах или научных категориях — значит в который раз предпочесть «Бога философов и ученых» личному Богу Авраама, Исаака, Иакова, зовущему каждого из нас по имени, предупреждающему языком Священного Писания и Предания об опасностях, желающему нашего спасения.
Ответ на поставленный в заглавии вопрос может быть следующим: научные теории — та или иная — имеют всего лишь функциональный или инструментальный характер. Можно согласиться с П. Дюгемом, утверждавшим, что наука предлагает не более чем одно из возможных описаний природных процессов, ориентируясь на уровень требуемого соответствия реальным параметрам измерений. Сама же Истина хотя и находит отражение в науке, но никак не вмещается в нее (см.: [Катасонов, 2005б]). Благовестие обращено всегда и только к человеку, который, открывая замысел Божественного мироустройства, применяя сложнейшие технологии или не касаясь их вовсе, предстоит перед Личным Богом и отвечает пред Ним за дела рук своих и помышления сердца. Таким образом, необходимо перенести фокус внимания в этой проблематике с научной теории на человека, ее творца, в руках которого — ключевые ориентиры цивилизации: служит ли она идолу прогресса, или нацелена на идеал преображения.
Список литературы Вопрос о возможности иной науки
- Вебер (2020) — Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М.: Изд-во АСТ, 2020. 320 с.
- Горячев (2022а) — Горячев Д., свящ. Антиномика Флоренского. Белгород: Политерра, 2022. 172 с.
- Горячев (2022б) — Горячев Д., свящ. Антиномия как философско-богословский метод священника Павла Флоренского: Дис. ... канд. богословия. Сергиев Посад, 2022.
- Иларион Троицкий (2004) — Иларион (Троицкий), сщмч. Прогресс и преображение // Иларион (Троицкий), сщмч. Творения: в 3 т. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2004. Т.3. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/progress-i-preobrazhenie/#sel=6:40,6:69;7:35, 7:65;8:19,8:29;9:18,9:43;9:149,9:152;10:270,10:280;11:20,12:13;12:521,12:559;13:91,13:105;16:1,16:8; 16:9,16:50;17:109,17:111;17:190,17:207;45:1,45:18;56:1,56:15;61:1,61:10 (дата обращения: 09.07.2023).
- Каллист Уэр (2001) — Каллист (Уэр), еп. Православная Церковь. М., 2001. 376 с.
- Катасонов (2005a) — Катасонов В. Н Современный научно-технологический прогресс и его религиозно-нравственные перспективы // Катасонов В.Н. Философско-религиозные проблемы науки Нового времени. М.: Изд-во ПСТГУ, 2005. С. 194-202.
- Катасонов (2005б) — КатасоновВ.Н. Философия и история науки Пьера Дюгема // В.Н. Катасонов. Философско-религиозные проблемы науки Нового времени. М.: Изд-во ПСТГУ, 2005. С. 22-61.
- Московский Сократ (2018) — Московский Сократ: Николай Федорович Федоров (1829-1903). Сборник научных статей / Российская гос. Б-ка, Ин-т мировой литературы, Музей-библиотека Н. Ф. Федорова; [сост.: А. Г. Гачева, М. М. Памфилов; отв. ред. А. Г. Гачева]. М.: Академический проект, 2018. 912 с.
- Соловьев (1990а) — Соловьев В. С. Тайна прогресса // Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 556-557.
- Соловьев (1990б) — Соловьев В. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории // Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 635-762.
- Флоренский (1992) — Флоренский П.А. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. М.: Московский рабочий, 1992. С. 24-266.
- Флоренский (1995a) — Флоренский П., свящ. Записка о христианстве и культуре // Флоренский П., свящ. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1995. Т. 2. С. 547-559.
- Флоренский (1995б) — Флоренский П., свящ. Иконостас // Флоренский П., свящ. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1995. Т. 2. С. 419-526.
- Флоренский (1994) — Флоренский П., свящ. Об одной предпосылке мировоззрения // Флоренский П., свящ. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1994. Т. 1. С. 70-78.
- Флоровский (2002) — Флоровский Г.В. Вера и культура // Флоровский Г.В. Вера и культура. СПб.: Изд-во РХГА, 2002. С. 650-670.
- Хайдеггер (1993) — Хайдеггер М. Вопрос о технике // Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 221-237.
- Хоружий (1999) — Хоружий С. С. Миросозерцание Флоренского. Томск: Водолей, 1999. 160 с.