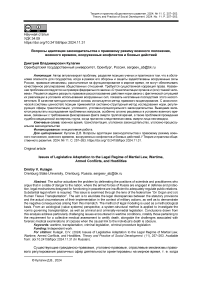Вопросы адаптации законодательства к правовому режиму военного положения, военного времени, вооруженных конфликтов и боевых действий
Автор: Кулагин Д.В.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Автор актуализирует проблему, разделяя позицию ученых и практиков в том, что в обстановке опасности для государства, когда в рамках его обороны и защиты задействованы вооруженные силы России, правовые механизмы, рассчитанные на функционирование в мирное время, не могут обеспечивать качественное регулирование общественных отношений. Требуется существенная коррекция права. Названная проблема исследуется на примере федерального закона «О трансплантации органов и (или) тканей человека». Решается задача раскрыть правовое рассогласование действия норм закона с фактической ситуацией их реализации в условиях использования вооруженных сил, показать негативные последствия этого несоответствия. В качестве методологической основы используется метод правового моделирования. С аксиологической (системы ценностей) позиции применяется системно-структурный метод исследования норм, регулирующих сферы трансплантации, уголовного, уголовно-процессуального законодательства. Выводами являются результаты исследования проблемных вопросов, особенно сложно решаемых в условиях военного времени, связанных с требованием фиксирования факта смерти группой врачей, а также проблемой проведения судебно-медицинской экспертизы трупа, когда причинно-следственная связь смерти лица неочевидна.
Военное время, трансплантация, уголовное законодательство, уголовно-процессуальное законодательство
Короткий адрес: https://sciup.org/149146974
IDR: 149146974 | УДК: 34.09 | DOI: 10.24158/tipor.2024.11.31
Текст научной статьи Вопросы адаптации законодательства к правовому режиму военного положения, военного времени, вооруженных конфликтов и боевых действий
российское общество функционирует в условиях стабильности, бесперебойного протекания экономических процессов и, в целом, мирного поступательного развития страны1, при отсутствии внешней и внутренней опасности государству и нации2.
В военное время3 ситуация характеризуется совокупностью обстоятельств иного характера. Следует согласиться с мнением ученых и практиков (Батырь, 2023: 8–11; Тарадонов, 2023: 17–19), что в обстановке опасности для государства, в условиях острой необходимости, когда защитить нацию можно только с помощью вооруженных сил России, правовые механизмы регулирования общественных отношений не дают ожидаемого результата (правопорядка). Причина заключается в неадаптированности норм права к чрезвычайным ситуациям, отсутствии учета особенностей правовых режимов военного положения, военного времени, ведения боевых действий и пр. Отсутствие охвата нормами права вновь возникших отношений, кардинальное изменение ранее существовавших отношений снижает упорядоченность регулирования, создает ситуацию неопределенности, дестабилизирует организацию защиты государства. Наиболее убедительно актуальность и необходимость решать проблему неадаптированности законодательства к военному времени проявляется при анализе правового механизма пересадки органов и тканей от трупа другому лицу в условиях проведения специальной военной операции (военного времени).
Проведенный анализ законодательства, регулирующего вопросы трансплантации, показывает, что специфика медицинской деятельности по пересадке органов носит сложный правовой режим. К правовым особенностям организации и реализации всего процесса пересадки донорских органов и тканей следует отнести следующие положения:
-
1) заключение о пересадке органов реципиенту как единственно оставшегося способа сохранить ему здоровье (жизнь) выдается консилиумом врачей (лечащий врач, хирург, анестезиолог) медицинского учреждения, в котором находится больной4;
-
2) заключение (констатация) о наступлении факта смерти мозга лица и возможном изъятии донорских органов у трупа выдается также консилиумом врачей медицинского учреждения, в котором пациент (потенциальный донор) умер;
-
3) констатация факта смерти головного мозга контролируется главным врачом медицинского учреждения. Он же дает согласие на изъятие донорских органов (тканей) у трупа или отказывает в этом5 (ст.10);
-
4) главный врач медицинского учреждения контролирует соблюдение врачами требования закона «принципа согласия» на отторжение органов у донора;
-
5) запрещается участие в констатации (диагностике) смерти потенциального донора врачей-трансплантологов (членов бригады);
-
6) врачам запрещено принимать участие в изъятии и заготовке органов и (или) тканей трупа, если они в последующем осуществляют их пересадку больному (реципиенту). И наоборот, медицинскому персоналу учреждения, специализирующегося на изъятии и заготовке органов от трупа, запрещено участвовать в пересадке органов реципиенту6.
Названные правовые особенности механизма трансплантации призваны способствовать решению двух задач. Первая задача: исключить принятие ошибочных решений медицинских вопросов, связанных с установлением потенциального донора, диагностикой его состояния, изъятия и хранения донорских органов, их пересадки реципиентам, не допустить ошибки в вопросах определения физиологических состояний (совместимости) потенциального донора и реципиента (Попова, Сергеев, 2018: 71).
Условия, требования и ограничения процесса трансплантации являются правовыми критериями оценки законности действий медицинского персонала. Их невыполнение медицинскими работниками является основанием для решения второй задачи. Вторая задача направлена на предупреждение и выявление преступных действий в сфере трансплантации органов; создание следственным органам благоприятных условий для установления обстоятельств их совершения (ст. 73 УПК РФ); доказывание в суде их виновности (ст. 299 УПК РФ).
В уголовно-процессуальном аспекте нарушения врачами требований и ограничений должностными лицами органов дознания и следствия могут восприниматься как признаки преступления в сфере трансплантации; как поводы и основания для возбуждения уголовного дела и производства предварительного следствия, уголовного преследования должностных лиц медицинского учреждения, допустивших нарушения нормативных установлений (ч. 1, ч. 2 ст. 140 УПК РФ) (Дробышева, Сергеев, 2018: 155).
В непосредственной связи с решением второй задачи находится следующее направление борьбы с преступлениями – выявление преступлений, совершаемых вне сферы трансплантологии. Обнаружение конкретных преступных эпизодов возможно при помощи задействования медицинского персонала. Отдельным положением законодательства о трансплантации органов и тканей является обращенное к медицинским работникам (участникам консилиума) требование, закрепленное и в ФЗ № 4180-1, и в уголовно-процессуальном законодательстве. При поступлении больного в больницу и обнаружении у него телесных и иных повреждений, дающих основание для предположения о криминальном характере их получения, в адрес прокурора и территориальный орган внутренних дел медицинское учреждение обязано направить сообщение о возможном криминальном событии (ст.10 ФЗ № 4180-1; п. 5 ч. 4 ст.13 ФЗ № 3231).
Изложенное позволяет заключить: в мирное время механизм правового регулирования процесса трансплантации, содержащий правовые предупредительные (профилактические) средства, существенно снижает риск преступных действий медицинского персонала. А выполнение врачами требования информировать правоохранительные органы и прокурора помогают выявлять преступления и преследовать виновных.
Однако в законе не предусмотрены особенности медицинских процедур трансплантации органов в период проведения боевых действий, когда в хирургические отделения поступает большое количество как гражданских лиц, так и военных с травмами, которые в итоге становятся причиной смерти2. В военное время, когда ведутся боевые действия, врачи-хирурги и врачи иных специализаций особенно востребованы. Это приводит к проблеме их нехватки (дефицита). Сложная ситуация острой потребности в хирургах и врачах иной специализации в ряде случаев объективно делает невозможным выполнение всех требований закона о трансплантации.
В первую очередь сказанное относится к требованию коллегиального принятия решений (консилиумом) в тех случаях, когда закон запрещает единоличное принятие решений. В условиях военного времени по каждому случаю смерти невозможно организовать коллективное (консилиумом) фиксирование факта смерти головного мозга. Объективно такая возникающая ситуация, вызванная непреодолимой силой (нехваткой медицинского персонала)3, законодательно не предусмотрена (пробел закона). Соответственно, констатация смерти головного мозга одним врачом является неправомерным и с позиции юридической силы – ничтожным.
Отсутствие коллегиального решения не позволяет и главному врачу принять решение об изъятии органов для пересадки реципиенту. Можно утверждать, что в условиях военного времени невозможность организовать коллегиальную констатацию смерти мозга лица и запрет на констатацию «необратимой гибели всего головного мозга (смерть мозга)» одним врачом-хирургом влечет возникновение проблемы морально-этического содержания.
Морально-этический аспект проявляется в том, что спасение жизни и восстановление здоровья граждан ставится в зависимость от субъективного фактора – несвоевременного реагирования законодателя на вызовы времени (перехода от мирной жизни к военному времени), когда законом сохраняются заранее невыполнимые требования. Наличие пробела в законе, который своим следствием имеет наступление общественно опасных последствий (смерть реципиента), законодателем должен устраняться в первоочередном порядке.
Специальная военная операция приближается к трехгодичному периоду. Как представляется, времени вполне достаточно для разработки и внесения в закон о трансплантации соответствующих уточнений. В целях получения большей возможности оказывать медицинскую помощь военнослужащим, получившим ранения в период ведения боевых действий, а также гражданским лицам, нуждающимся в пересадке донорских органов, представляется целесообразным ФЗ № 4180-1, а именно абз. 1 ст. 9 «Определение момента смерти»1 дополнить следующим содержанием: «Органы и (или) ткани могут быть изъяты у трупа для трансплантации, если имеются бесспорные доказательства факта смерти, зафиксированного консилиумом врачей-специалистов. В военное время допускается фиксирование факта смерти единолично врачом-специалистом и оформление заключения о смерти».
Следующее несоответствие закона военному времени, требующее правового уточнения, связано с выполнением требования проведения судебно-медицинской экспертизы трупа, когда причинно-следственная связь смерти лица неочевидна2 и допускается версия, что смерть могла наступить в результате преступных действий.
Версия о криминальных действиях, повлекших смерть лица, может быть выдвинута при различных повреждениях. Часто преступный умысел пытаются замаскировать под несчастный случай (лицо захлебнулось в воде; попало под действие высокой температуры; произошло обваривание горячими жидкостями; было воздействие электричества высокого напряжения; отравление, суицид-повешение, падение на железнодорожные линии и т. д.).
В период проведения боевых действий смерть может наступить не только в силу поражающих элементов различных видов вооружения. С позиции факторов, влияющих на криминогенную обстановку, проведение военных действий характеризуется (по объективным причинам) снижением возможности эффективной организации работы правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений (Рывкин, Серебрякова, 2020: 106); увеличением числа преступлений (например, мародерства3), которые относятся к категориям «тяжкое» или «особо тяжкое» (Ки-бальник, 2024: 65–67; Никулочкин и др., 2018: 77–78; Янин, Сергеев, 2015: 212).
В действующем федеральном законе № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека», а также в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации целесообразно учесть правовые режимы военного положения, военного времени, вооруженного конфликта, ведения боевых действий. В современной редакции закона такой учет отсутствует (Канкулов, Степанова, 2023; Кобец, Краснова, 2023: 42–51; Сергеев, 2019: 157).
В случае поступления в больницу лица с телесными повреждениями, возможно криминального происхождения, повлекшими его смерть, закон требует «проведения судебно-медицинской экспертизы». Без разрешения судебно-медицинского эксперта изъятие органов и (или) тканей у трупа не допускается (абз. 2 ст. 10 ФЗ № 4180-1). Аналогичное требование содержит и Уголовнопроцессуальный кодекс. В соответствии с п. 1 ст. 196 УПК РФ (обязательное назначение экспертизы) для подтверждения/неподтверждения криминального события (смерти лица) должна быть назначена и проведена судебная экспертиза. Мотивация законодателя в отношении этого требования понятна: изъятие органов до направления трупа в экспертную организацию может осложнить получение истинного ответа о криминальном/некриминальном событии (смерти лица).
Проблемы, связанные с производством экспертного исследования, достаточно широко исследуются различными авторами (Вилкова и др., 2023: 120). Характерной чертой производства судебно-медицинской экспертизы трупа по обнаружению признаков преступления в таких «несчастных» случаях является большой срок проведения экспертизы. Для решения вопроса – возбуждать или не возбуждать уголовное дело по криминальным основаниям – уголовно-процессуальное законодательство для проведения экспертизы устанавливает временной порог в 30 суток (ст. 144 УПК РФ) (Вилкова и др., 2023: 121; Альшевский, 2018: 46–49).
Большой период производства судебно-медицинской экспертизы для выявления признаков преступления в отношении погибшего лица негативно сказывается на трансплантологии. Причиной тому является несовпадение длительного периода экспертизы и времени, в течение которого орган трупа можно изъять и пересадить без риска потери его биологических характеристик. Чем дольше период с момента смерти и до момента пересадки органа реципиенту, тем ниже эффективность такой операции. Орган не приживается и может привести к летальному исходу самого больного.
Законодательство требует производства экспертизы в двух ситуациях: когда очевиден преступный характер нанесения повреждений лицу и в ситуациях неопределенности, когда характер неочевиден, но можно предположить, что было совершено преступление. В силу субъективного характера (усмотрения) ситуация неопределенности с причиной смерти (криминальная/некрими-нальная) может иметь разнообразную практику1.
Первое направление практики формируется исходя из презумпции (предположения), что с большой долей вероятности в отношении лица было совершено преступление, повлекшее его смерть (презумпция криминальности). Если у медицинского учреждения возникают малейшие сомнения, оно всегда направляет трупы на экспертное исследование. Данный подход имеет два условия-последствия. С одной стороны, правоохранительным органам создаются более благоприятные условия для выявления и расследования тяжких преступлений. С другой стороны, для процедуры получения донорских органов и их пересадки больным такая практика может иметь негативные последствия. Она снижает количество доступных для трансплантации донорских органов, что усложняет решение проблемы поиска подходящих доноров и приводит к увеличению числа больных, ожидающих трансплантации.
Второе направление практики может быть основано на принципе: признаки есть, но вероятность, что совершено преступление, невысокая (презумпция некриминальности). При отсутствии очевидно выраженных признаков преступления консилиум врачей исходит из предположения о некриминальном случае, и изъятие органов осуществляется без предварительного направления тела на судебно-медицинскую экспертизу. При таком подходе в отдельных случаях имевшее место преступление переходит в разряд латентных. Но такой подход позитивно влияет на пополнение донорских органов и тканей и в целом на спасение жизней больных.
В условиях проведения боевых действий, в целях сохранения жизни как можно большему количеству военнослужащих, предлагается внести в законодательство некоторые уточнения. В ст. 10 ФЗ № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» добавить отдельный абзац: «В период военного положения, военного времени, вооруженного конфликта, ведения боевых действий проведение судебно-медицинской экспертизы допускается после изъятия донорских органов и (или) тканей у трупа» .
В п. 1 ст. 196 (обязательное назначение экспертизы) Уголовно-процессуального кодекса внести следующие изменения: «Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить:
-
1) причины смерти;
-
1.1) В период военного положения, военного времени, вооруженного конфликта, ведения боевых действий проведение судебно-медицинской экспертизы допускается после изъятия донорских органов и (или) тканей у трупа» . Далее по тексту.
-
Изложенное позволяет заключить.
-
1. В мирное время механизм правового регулирования процесса трансплантации, содержащий правовые предупредительные (профилактические) средства, существенно снижает риск преступных действий медицинского персонала. А выполнение врачами требования информировать правоохранительные органы и прокурора помогают выявлять преступления и преследовать виновных.
-
2. Одним из факторов, существенно снижающих риск широкого распространения совершения преступлений, является коллегиальное принятие врачами решений о трансплантации – в пересадке органов на разных этапах (уровнях) задействован коллектив медицинских работников.
-
3. Несмотря на тщательную правовую проработанность процесса оказания медицинской помощи в виде трансплантации (пересадки органов), утверждать, что в данной области не совершаются преступные действия, было бы преждевременным. Противоправное деяние в данной сфере может проявиться в любом из последовательных медицинских этапов: начальном, основном, завершающем. Каждый этап имеет свой механизм реализации отведенной ему задачи.
-
4. В условиях военного положения, военного времени, вооруженного конфликта, ведения боевых действий условия, требования, ограничения на изъятие и пересадку органов, установленные для мирного времени нормами права, по объективным причинам не всегда могут быть выполнены. Такое положение создает угрозу ошибочного (по субъективной стороне состава правонарушения) уголовного преследования врачей; существенно осложняет решение проблемы получения донорских органов и последующую их пересадку. Чтобы устранить этот пробел (отсутствие в законе учета правовых режимов), целесообразно внести соответствующие изменения и дополнения.
Список литературы Вопросы адаптации законодательства к правовому режиму военного положения, военного времени, вооруженных конфликтов и боевых действий
- Альшевский В.В. Методика судебно-медицинского исследования при производстве экспертизы в уголовном судопроизводстве по делам о причинении врачом вреда здоровью пациента (сообщение 2) // Медицинское право. 2018. № 5. С. 44-49.
- Батырь В.А. Международное гуманитарное право и право вооруженных конфликтов: вопросы соотношения // Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение. 2021. № 12 (293). С. 6-29.
- Вилкова Т.Ю., Максимова Т.Ю., Ничипоренко А.А. Обеспечение доступа к правосудию потерпевшим по делам о ятрогенных преступлениях // Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18, № 9. С. 119-130. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2023.154.9.119-130.
- Дробышева Е.Н., Сергеев А.Б. Причины и криминалистическая характеристика преступных действий должностных лиц лечебных учреждений в процессе удаления органов у одних лиц и их имплантацию другим // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2018. № 3 (17). С. 154-160.
- Канкулов А.Х., Степанова Т.В. Вопросы правоприменительной практики по новым статьям уголовного кодекса Российской Федерации, направленным на противодействие диверсионным акциям // Аграрное и земельное право. 2023. № 3 (219). С. 171-173. https://doi.org/10.47643/1815-1329_2023_3_171.
- Кибальник А.Г. «Реанимация» мародерства в уголовном праве // Российский следователь. 2024. № 1. С. 64-68. https://doi.org/10.18572/1812-3783-2024-1 -64-68.
- Кобец П.Н., Краснова К.А. Генезис правового регулирования трансплантации органов и тканей человека в Российской Федерации // Теория и практика судебной экспертизы. 2023. Т. 18, № 3. С. 42-51. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2023-3-42-51.
- Никулочкин Е.О., Сергеев К.А., Сергеев А.Б. Конфискация имущества: уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты // Социум и власть. 2013. № 3 (41). С. 77-79.
- Попова Т.В., Сергеев А.Б. Преступная деятельность при оказании медицинской помощи по профилю хирургия (трансплантация органов и (или) тканей человека): правовой и виктимологический аспект // Виктимология. 2018. № 1 (15). С. 69-75.
- Рывкин С.Ю., Серебрякова Я.В. Особенности деятельности правоохранительных органов и расследования преступлений в условиях военного времени // Социально-экономические и гуманитарные науки: сборник избранных статей по материалам Международной научной конференции. СПб., 2020. С. 104-107.
- Сергеев А.Б. Критический анализ отдельных положений проекта федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2019. № 2 (48). С. 156-162.
- Тарадонов С.В. Боевые действия, военные действия, военное время, законодательство военного времени: соотношение понятий, проблемы терминологии // Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение. 2023. № 12 (317). С. 15-23.
- Янин Д.Г., Сергеев А.Б. Один из аспектов соотношения международного и национального права по вопросу передачи лица, осужденного судом Российской Федерации за экстремизм, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является // Соотношение национального и международного права по противодействию национализму, фашизму и другим экстремистским преступлениям: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной выдающемуся российскому ученому Николаю Сергеевичу Алексееву. М., 2015. С. 212-215.