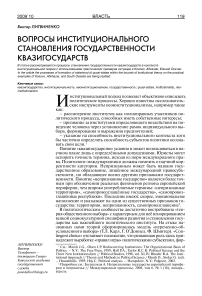Вопросы институционального становления государственности квазигосударств
Автор: Литвиненко Виктор Тимофеевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 10, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются процессы становления государственности квазигосударств в контексте институциональной теории с использованием практических примеров ситуации в Косово, Абхазии, Южной Осетии.
Квазигосударство, институциональность, неоинституционализм, государственность
Короткий адрес: https://sciup.org/170164596
IDR: 170164596
Текст научной статьи Вопросы институционального становления государственности квазигосударств
И нституциональный подход позволяет объективно описывать политические процессы. Хорошо известны исследовательские инструменты неоинституционализма, например такие как:
– рассмотрение институтов как полноправных участников политического процесса, способных иметь собственные интересы;
– признание за институтами определяющего воздействия на поведение человека через установление рамок индивидуального выбора, формирования и выражения предпочтений;
– указание на способность институционального контекста хотя бы частично определять способность субъектов политики осознавать свои цели.1
Понятие «квазигосударство» условно и может использоваться в научном плане лишь с определёнными допущениями. Юристы могут оспорить точность термина, исходя из норм международного права. Политологи-международники должны помнить о научной корректности категории. Непризнанным может быть названо государственное образование, лишённое международной правосубъектности, но обладающее всеми другими признаками государственности. Понятие «непризнанное государство» является более точным при обозначении реальных феноменов региона европейской периферии, чем широко употребляемые термины: «непризнанные территории», «самопровозглашённые государства», «самопровозглашённые республики». Последние имеют, скорее, эмоциональное наполнение и указывают на одни из существенных признаков государства: территорию, непризнанность, самопровозглашение2.
В политологическом сообществе достаточно востребована «теория общественного выбора» с характерным для неё игнорированием всякой социокультурной специфики развития и становления государства как важнейшего политического института. На стыке названных нами теорий сформировалась модель «переменно-обусловленного выбора» (Т.Л. Карл, Г. О’Доннел, Ф. Шмитер). «Con-tingent choice» отстаивает положение, что решающая роль здесь при надлежит в ыработке «правил игры» политическими субъектами, фор-
ЛИТВИНЕНКО Виктор
мирующими таким путём институциональный контекст собственной деятель-ности1.
Современное международное право не даёт однозначного ответа на вопрос, что необходимо сделать, чтобы создать новое государство. В результате краха колониальных империй в ХХ в. появился так называемый «декларативный» способ – когда некая территория просто объявляет о том, что она представляет собой независимое государство.
Согласно «конституционному» пути для приобретения полноценного статуса самопровозглашённым государствам необходимо международное признание. Формальный акт дипломатического признания означает, что одно государство признаёт независимый статус другого и полномочия его правительства. Существует два типа официального признания – «де-факто» и «де-юре». Признание «де-факто» (то есть, на основе факта существования данной структуры) имеет «неофициальный» характер, однако этого достаточно, чтобы оба государства могли установить дипломатические отношения, взаимно признавали паспорта и визы и пр. Признание «деюре» (то есть, на основе существующих международных норм) предусматривает установление межгосударственных отношений в полном объёме. Иногда признание «де-факто» предшествует признанию «де-юре». К примеру, Великобритания «де-факто» признала большевистское правительство России легитимной властью в 1921 г., а «де-юре» – лишь три года спустя.
Однако недавнее признание со стороны 40 с лишним государств мира государственности Косово, вопреки резолюциям ООН и установленным принципам международного права, показывает, что политические реалии сегодня во многом иные. Меняется мир, соответственно меняются и правовые нормы, которые его регулируют. Некоторые из них перестали действовать, другие утратили свою универсальность и значение.
Рассуждая о политических процессах становления государственности, например, Абхазии, Приднестровья, Южной Осетии, необходимо учитывать как политическое, экономическое, социальное влияния соседних государств, так и тенденции функционирования мировой политической системы.
Здесь принципиально важно отметить роль и место единого регулирующего органа. В этом смысле ООН является всего лишь политической площадкой, на которой обсуждаются насущные политические вопросы. Одной из функций указанной площадки является международное признание государств. Международное признание позволяет новому государству утвердиться на международной арене и способствует его дальнейшему развитию.
Отсутствие указанного признания, безусловно, частично ограничивает суверенитет государства, однако не является необходимым условием появления новой страны.
Появление непризнанного государства означает, что метрополия, от которой это государство откололось, не в состоянии по тем или иным причинам обеспечить неприкосновенность своих границ. К примеру, после того как в 1993 г. охрана морской границы Абхазии была передана от служащих Федеральной пограничной службы России абхазским пограничникам и военным морякам, Грузия неоднократно провоцировала захваты российских рыболовецких сейнеров, ведущих рыбный промысел в акватории Абхазии.
По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2007 г. в мире продолжались 14 крупных военных конфликтов, причём в четырёх странах – Шри-Ланке, Афганистане, Мьянме и Турции – военные действия усилились. «Границы современных государств, – процитируем Э. Гидденса, – всё больше становятся фронти-рами, благодаря связям с другими регионами и вовлечённости в различного рода транснациональные группировки»2. В свою очередь, В.А. Трапезников обосновывает необходимость инвестиционного права , которое он рассматривает как самостоятельную комплексную отрасль права3. Следовательно, связанные с экономическими интересами международные конфликты должны рассматриваться как политикоэкономические.
Одной из причин сохранения повышенной конфликтности в начале XXI в. является затянувшийся характер переходного периода в развитии международных отношений. Нельзя исключать, что на активности субгосударственных (преимущественно этнополитических) движений будет сказываться «эффект прецедента» – эффект от обретения независимости или повышения статуса этнополитических группировок, успевших воспользоваться возможностями, открывшимся в ходе распада биполярной мировой системы.
Борьба за признание, ранее осуществлявшаяся на уровне военных, религиозных или националистических интересов, сегодня переходит в сферу экономическую, благодаря чему создаётся феномен длительного частичного нарушения государственного суверенитета.
Нарушение является одним из факторов возможного распада государственности.
Международный порядок регулирует отношения между разными целостностями – суверенными государствами; притом не всеми, а, прежде всего, ведущими; и не во всём, а только в том, что сами они полагают требующим или заслуживающим регулирования. Следовательно, глобальный миропорядок ориентирован на формирование одной целостности, а со временем будет, видимо, ориентироваться на поддержание мироцелостности . Поэтому мера его императивности должна быть принципиально выше, чем порядка международного.
Глобальный порядок вынужден будет заняться интеграцией множества ранее созданных международных систем регулирования.
Регулирование есть удержание неких процессов, параметров в заданных, наиболее предпочтительных или наименее неприятных пределах.
Большим достижением мирового сообщества стало установление обязательных для всех международно-правовых норм.
Указанные нормы должны применяться в рамках международного права, которое в настоящий момент также находится в стадии становления, как, например, европейское право (acquis communautaires), ставшее результатом консенсуса организованных в интеграционный союз стран Европы.
Вернемся к прецеденту Косово. Он чрезвычайно важен для понимания роли меж- дународных институтов в вопросах существования непризнанных государств на постсоветском пространстве. Политические элиты подчас недооценивают нарастание конфликтного потенциала после одностороннего признания Косово независимым государством некоторыми западными акторами. Здесь столкнулись международные интересы Соединённых Штатов, западноевропейских государств, России, а также важнейших международных организаций – ООН, ОБСЕ, ЕС, НАТО.
Вместе с тем понижающая роль ООН в разрешении кризисов, в том числе и во время событий в Южной Осетии, свидетельствует, что назрела системная реформа и этой организации. В Уставе ООН, например, отсутствует рабочее определение «агрессии», и потому Совету Безопасности ООН по статье 51 предоставляется право решать, что именно следует считать агрессией.
Однако, несмотря на низкую эффективность ООН, за последние годы удалось добиться больших успехов на концептуальном уровне: разработаны такие понятия, как «обязанность защищать» и «человеческая безопасность», определяющие ответственность международного сообщества за облегчение людских страданий. По сути, эти понятия вступают в противоречие с безраздельно господствовавшей ранее концепцией государственного суверенитета, который исключал возможность вмешательства международного сообщества. Намечены пути реформирования ООН. Конечно, на реализацию этих инициатив уйдет немало времени и сил, решающую роль в этом процессе должны будут сыграть ведущие державы мира.
Но даже в случае неудачи реформирования ООН многостороннее взаимодействие возможно, необходимо и весьма вероятно. Такие производные современных трансграничных контактов и глобализации, как открытость, взаимозависимость и уязвимость, вынуждают правительства объединять усилия для решения проблем, с которыми им не справиться каждому по отдельности.
Интересы мирного разрешения конфликтов требуют чёткого подтверждения всеми сторонами приверженности принципам ОБСЕ о мирном урегулировании споров, о неприменении силы и угрозы си- лой. Эти два принципа закреплены в хельсинкском Заключительном акте как основа для мирного разрешения конфликтных ситуаций. Серьёзным испытанием для системы международного права и политического порядка стало содействие ряда западных стран окончательному отделению сербской провинции Косово от Сербии. Провозглашение независимости этого квазигосударства происходило вопреки международному праву, прежде всего с нарушением ст. 2 хартии ООН, которая должна гарантировать территориальную неприкосновенность государства – члена ООН.
Мнимое разрешение косовского вопроса означает ещё один шаг по демонтажу основ международного права и ООН.
В случае, подобном косовскому либо абхазскому или югоосетинскому, необходимо строжайшее соблюдение принципа взаимной ответственности и прагматичного согласования интересов как со стороны государства «метрополии», так и территории, стремящейся к самостоятельности и международному признанию. Если самопровозглашённое образование на протяжении длительного времени демонстрирует состоятельность государственных институтов, наличие демократии, соблюдение прав этнических меньшинств, консенсус элит, экономическую состоятельность и культурную самобытность, если движение к независимости идёт мирным и демократическим путём с учётом разумного торга и компромиссов – налицо возможность его международного признания в качестве самостоятельного и со стоявшего ся государства»1.
Итак, основным методологическим подходом при анализе политического феномена появления и существования квазигосударств является институциональный подход. В настоящее время при анализе всё чаще используются исследовательские инструменты неоинституционализма. Само понятие «непризнанное государство» условно и может использоваться в научном обороте только с определёнными допущениями. Современное международное право не даёт однозначного ответа на вопрос, что необходимо сделать, чтобы создать новое государство.
Международное признание позволяет новому государству утвердиться на международной арене и способствует его дальнейшему развитию. Отсутствие указанного признания, безусловно, частично ограничивает суверенитет государства, однако не является необходимым условием появления новой страны, о чем свидетельствует пример Абхазии и Южной Осетии.
Интересы мирного разрешения конфликтов требуют чёткого подтверждения всеми сторонами приверженности принципам ОБСЕ о мирном урегулировании споров, о неприменении силы и угрозы силой. Наблюдается системная дисфункция мировой политической системы, в результате которой стала возможной длительная неопределённость политического статуса Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии, основу которой составляет отсутствие методологии легитимации самопровозглашённого государства в качестве полноправного субъекта геополитики, признаваемой всеми странами – членами ООН.