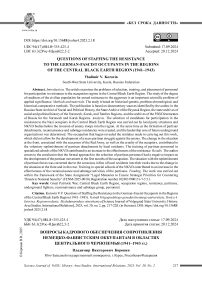Вопросы кадрового обеспечения сопротивления немецко-фашистским оккупантам в областях Центрального Черноземья (1941–1943 гг.)
Автор: Коровин В.В.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: «Без срока давности»: нацистская пропаганда, оккупация и сопротивление захватчикам
Статья в выпуске: 2 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье рассматриваются проблемы подбора, подготовки и расстановки кадров для участия в сопротивлении оккупационному режиму на территории областей Центрального Черноземья. Исследование степени готовности гражданского населения к вооруженному противостоянию агрессору является важной научной проблемой, имеющей прикладное значение. Методы и материалы. Основой исследования стали историко-генетический, проблемно-хронологический и историко-сравнительный методы. Публикация основана на документальных источниках, выявленных автором в Российском государственном архиве социально-политической истории, Государственном архиве Брянской области, государственных архивах общественно-политической истории Воронежской, Курской, Тамбовской областей, архивах Управлений ФСБ России по Воронежской и Курской областям. Анализ. Отбор кандидатов для участия в сопротивлении немецко-фашистским оккупантам на территории областей Центрального Черноземья осуществлялся местными партийными структурами и органами НКВД до вторжения войск противника в пределы региона. Одновременно с формированием партизанских отрядов создавались разведывательно-диверсионные резидентуры, определялось руководящее ядро будущих подпольных организаций. Начавшаяся оккупация выявила допущенные при проведении этой работы ошибки, что не позволило развернуть массовую партизанскую борьбу с врагом. Изменение обстановки на фронте, связанное с успехами Красной армии, а также жестокость оккупантов способствовали добровольному пополнению партизанских отрядов местными жителями. Повышению эффективности сопротивления способствовало обучение партизанских кадров в специализированных школах УНКВД. Результаты. Автор приходит к выводу, что формальный подход к отбору партизанских кадров оказал негативное влияние на развертывание партизанского движения в первые месяцы оккупации. Ситуация с пополнением партизанских сил исправилась за счет осознанного притока в их ряды местного населения в связи с изменением положения на фронте и в тылу. Обучение в спецшколах УНКВД способствовало повышению эффективности разведывательно-диверсионной деятельности партизан. Финансирование. Работа выполнена в рамках Государственного задания «Правовые меры обеспечения стратегических приоритетов по противодействию угрозам национальной безопасности» (FENM-2025-0010). Регистрационный номер 1024031900131-7-5.5.1.
Великая Отечественная война, Центральное Черноземье, оккупационный режим, сопротивление, партизаны, подпольщики, разведывательно-диверсионная группа, личный состав
Короткий адрес: https://sciup.org/149147761
IDR: 149147761 | УДК: 94(47).084.8+355.425.4 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.2.18
Текст научной статьи Вопросы кадрового обеспечения сопротивления немецко-фашистским оккупантам в областях Центрального Черноземья (1941–1943 гг.)
DOI:
Цитирование. Коровин В. В. Вопросы кадрового обеспечения сопротивления немецко-фашистским оккупантам в областях Центрального Черноземья (1941–1943 гг.) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 2. – С. 217–228. – DOI:
Введение. Одной из актуальных проблем современной военно-исторической науки является увлеченность отдельных исследователей обезличенной фактографией, когда вопросы тактики, оперативного искусства и стратегических решений рассматриваются вне антропологических характеристик участников анализируемых событий. Даже сегодня, в век цифровых технологий, исход любого вооруженного конфликта зависит, прежде всего, от человека, управляющего сложной военной техникой. Поэтому опыт использования людских ресурсов в годы Великой Отечественной войны, ставшей наиболее крупным испытанием обороноспособности нашего государства, продолжает иметь принципиально важное значение для осмысления складывающейся геополитической обстановки.
История партизанского движения на территории временно оккупированных районов СССР в годы Великой Отечественной войны нашла достойное отражение как в советской, так и современной российской историографии. Причем открытие для исследователей доступа к архивным фондам партийных структур и органов государственной безопасности позволило коренным образом изменить представление об организационных проблемах вооруженного сопротивления немецко-фашистским оккупантам, раскрыть ранее неизвестные аспекты, включая специфику подбора и подготовки партизанских кадров.
Методы и материалы. При многообразии терминологических подходов, характеризующих исследуемую тему, полагаем уместным определять ее понятием «сопротивление в тылу немецко-фашистских войск», рассматриваемым как совокупность форм вооруженного и невооруженного противостояния политическим, экономическим и военным мероприятиям противника, проявлявшегося в активных действиях на временно оккупирован- ной территории добровольческих военизированных формирований (партизанские отряды и соединения, разведывательно-диверсионные группы НКВД) и гражданского населения (подпольные организации, отдельные патриоты) [11, с. 8–9].
Характерной чертой современной историографии проблемы является ее региональная направленность. Так, кадровый аспект в истории сопротивления нацистским оккупантам на территории северо-западных регионов получил отражение в трудах Н.В. Шабель-ник [36] и С.Г. Веригина [2]. Большое внимание вопросам формирования партизанских сил уделяют в своих работах крымские историки О.В. Романько [25] и С.Н. Ткаченко [35]. Роль И.Г. Старинова в подготовке партизанских кадров на Орловщине раскрывает А.В. Меркулов [12]. В свою очередь, создание обобщающих трудов возможно только при проведении подобных исследований в территориальных рамках всех регионов, подвергавшихся оккупации.
Публикация основана на документальных источниках, выявленных автором в Российском государственном архиве социальнополитической истории, Государственном архиве Брянской области, государственных архивах общественно-политической истории Воронежской, Курской, Тамбовской областей, архивах Управлений ФСБ России по Воронежской и Курской областям. Анализу подверглись директивные указания и распорядительные акты центральных и региональных органов власти по вопросам организации сопротивления оккупантам, делопроизводственная документация местных партийных структур, административных органов и партизанских формирований, включая списки, содержащие анкетные данные участников партизанской борьбы. Изученные источники позволяют в полной мере решить исследовательские задачи.
Статья подготовлена на основе принципов историзма, объективности и системности. Примененный при подготовке статьи историко-генетический метод дал возможность проследить конкретный процесс организационно-мобилизационной деятельности региональных властных структур в динамике, строгой последовательности событий, выявить причинно-следственные связи; проблемнохронологический метод позволил автору изучить проблемы исследования в последовательном развитии; историко-сравнительный метод обеспечил выделение общего, особенного и единичного в действиях органов власти разных областей исследуемого региона.
Анализ. В отличие от западных территорий СССР, где времени на подготовительную работу по формированию партизанских сил летом 1941 г. практически не оставалось, в ряде регионов РСФСР, подвергшихся вражеской оккупации впоследствии, имелась возможность осуществить комплекс предварительных мероприятий по развертыванию сопротивления в тылу противника.
Летом 1941 г. на территории прифронтовых регионов, к числу которых относилась Курская область, активно проводилась организационно-мобилизационная работа, направленная на комплектование из числа военнообязанных граждан личного состава ряда соединений действующей армии; эвакуацию отдельных категорий населения, материальных и культурных ценностей; создание добровольческих военизированных формирований, к числу которых относились истребительные батальоны, части народного ополчения и партизанские отряды.
Исходя из того что изначально организация сопротивления оккупантам регламентировалась директивой СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1 941 г. и постановлением ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г., перед руководителями местных партийных органов ставилась задача лично возглавить партизанскую борьбу на временно оккупированных территориях. Содержавшееся в упомянутых программных документах требование о незамедлительном создании подпольных ячеек, с переводом их членов на нелегальное положение; формировании боевых дружин и диверсионных групп из числа бойцов истребительных батальонов, а также коммунистов и комсомольцев, не используемых в подпольной работе [26, с. 18–20], предполагало наличие определенных кадровых ресурсов и не в полной мере отражало ситуацию, складывавшуюся на местах.
Истребительные батальоны, которые предполагалось использовать в качестве одного из основных источников партизанских кадров, в большинстве районов Курской области были сформированы к августу 1941 г., насчитывая в своих рядах более 10,5 тыс. чел. [14, с. 159]. Их личный состав комплектовался исходя из наличия навыков военной подготовки, обеспечивающих выполнение служебно-боевых задач.
Качественному обучению бойцов, включенных в ряды истребительных батальонов, препятствовала необходимость исполнения ими профессиональных обязанностей по основному месту работы. Складывалась ситуация, аналогичная современной, когда местные власти до приближения противника к границам региона и вторжения в его пределы не уделяли должного внимания охране тыла с привлечением к выполнению этой задачи военно-обученных резервов.
Необходимо выделить и другие проблемы, препятствовавшие дальнейшему использованию бойцов истребительных батальонов для борьбы в тылу противника. Например, учебные программы их боевой подготовки не предусматривали освоение основ разведывательно-диверсионной деятельности. Уровень физической и тактической подготовленности многих бойцов не соответствовал характеру задач, стоявших перед бойцами истребительных батальонов и партизанами. Серьезной проблемой оставалась текучесть кадров. Мобилизация в РККА или экстренная эвакуация специалистов приводили к естественному сокращению численности добровольческих военизированных формирований. Подобное положение складывалось из-за формального подхода ответственных должностных лиц к их комплектованию.
Аналогичная ситуация наблюдалась и в Воронежской области, где к 20 июля 1941 г. удалось сформировать 90 истребительных батальонов [14, с. 159]. До начала вражеской оккупации (июнь 1942 г.) в регионе прошли специальную подготовку более 26 тыс. чел. [17, л. 4]. В отличие от опыта обучения бойцов истребительных батальонов Курской области, воронежцев готовили действовать и в тылу противника.
Отбором личного состава будущих партизанских отрядов в районах, находившихся под угрозой оккупации, занимались оперативные сотрудники региональных управлений
НКВД, которым предписывалось: «Из числа бойцов истребительного батальона, совместно с начальником РО НКВД и секретарем РК ВКП(б) путем индивидуальных бесед отобрать 50–60 надежных, преданных коммунистов и комсомольцев (обязательно с их согласия)» [19, л. 38–40]. Созданный из их числа партизанский отряд предполагалось использовать для действий в тылу противника.
С июля 1941 г. Управление НКГБ по Курской области начало подготовку диверсионно-террористических и разведывательных агентур, призванных обеспечить сопротивление оккупантам. Согласно подготовленной инструкции детально регламентировалась процедура вербовки агентуры, предусматривавшая личное общение сотрудника с отбираемым контингентом на предмет выявления морально-волевых качеств, обеспечивающих успешное выполнение спецзаданий.
К осени 1941 г. в Курской области удалось сформировать более 500 разведывательно-диверсионных резидентур общей численностью свыше 1,5 тыс. человек. Сотрудники УНКВД завербовали почти тысячу агентов-одиночек, более 100 связных и содержателей явочных квартир. Но к началу оккупации региона до трети отобранного контингента было утрачено по упомянутым выше причинам [9, л. 19–19 об.]. Оставшаяся же на оккупированной территории агентура в большинстве своем бездействовала, а в отдельных случаях встала на путь коллаборации с врагом.
Основной причиной ошибок, допущенных при проведении вербовочных мероприятий, стал формальный подход к проверке деловых качеств отбираемых агентов. Стремление оперативников любой ценой выполнить поставленные руководством мобилизационные задачи в дальнейшем негативно сказывались на эффективности деятельности разведывательно-диверсионной сети, оставляемой в тылу противника.
17 октября 1941 г. Курский обком ВКП(б) направил директивное письмо районным партийным организациям о выделении проверенных кадров для участия в подпольной работе на территории других районов, выполнения спецзаданий в тылу врага, в том числе в составе партизанских отрядов, с возложением ответственности за результативность этой работы на секретарей райкомов [4, л. 85– 85 об.]. Поэтому значительную часть партизанских формирований на этапе перехода к выполнению боевых задач возглавили лично секретари райкомов ВКП(б).
О противоречивости процесса подбора партизанских кадров и их мобильности свидетельствуют и данные официальной отчетности. Если на 21 августа 1941 г. в Курской области было создано 10 отрядов общей численностью 1 705 чел. [7, л. 26–26 об.], то к 2 ноября 1941 г. областные органы власти докладывали о 32 сформированных партизанских отрядах, насчитывавших в своих рядах 2 тыс. бойцов [5, л. 31 об.]. На территории Воронежской области осенью 1941 г. местные органы власти создали 165 партизанских отрядов численностью 20–25 человек каждый. Почти 5 тыс. будущих воронежских партизан прошли обучение на специальных курсах [31, л. 2– 2 об.]. После перерыва, вызванного относительной стабилизацией положения в регионе, позволившего мобилизовать в РККА более двух третей кадрового резерва партизан и треть будущих подпольщиков, весной 1942 г. работа по организации партизанских отрядов в Воронежской области возобновилась. В результате здесь восстановили 158 отрядов общей численностью 3 126 человек [6, л. 3–4].
Непоследовательность в практике подбора партизанских кадров отразилась на боеспособности отрядов в первые дни оккупации Курской области. В результате несогласованного распоряжения людскими ресурсами со стороны властных структур, а также прямого и косвенного отказа значительной части личного состава от выполнения взятых на себя обязательств по участию в борьбе на оккупированной территории начать организованное сопротивление противнику не удалось.
Не лучшим образом проявили себя и представители командного состава ряда партизанских отрядов. Столкнувшись с необходимостью остаться на территории, контролируемой противником, большая часть руководителей районных партийно-хозяйственных органов, ответственных за организацию вооруженной борьбы с оккупантами на местах, проявила полную неспособность к деятельности в экстремальных условиях, следствием чего стало прекращение существования мно- гих партизанских отрядов Курской области осенью 1941 года.
На начальном этапе развертывания партизанского движения в регионе местное население занимало противоречивую позицию по отношению к участию в сопротивлении оккупационному режиму. С одной стороны, жители западных и северо-западных районов Центрального Черноземья, с учетом личных и родственных связей, оказывали материальную помощь партизанам продуктами питания и теплыми вещами. В то же время явного стремления пополнять ряды народных мстителей у большинства из них не было, что объяснялось отсутствием уверенности в реальной возможности партизан вести результативную борьбу с оккупантами, вследствие недостатка вооружения и боеприпасов, а также недостоверности информации о положении на фронте и в тылу.
Рост численности партизанских отрядов на оккупированной территории Курской области стал наблюдаться лишь к весне 1942 года. В это время сведения о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой дошли до самых отдаленных районов, а население стало осознавать антигуманную сущность политики оккупантов по отношению к мирным гражданам, отвергая ее во всех проявлениях. Все это побуждало уходить в партизаны целыми семьями. Подобная тенденция сохранилась и в дальнейшем, достигнув пика активности осенью 1942 – зимой 1943 года.
Существенным источником пополнения партизанских отрядов стали бойцы и командиры Красной армии, получившие в силу сложившихся обстоятельств общее наименование «окруженцы». Осенью 1941 г. в составе войск Брянского фронта они с боями пытались вырваться из кольца вражеского окружения, но не смогли пересечь линию фронта. По оценке члена Военного Совета 13-й армии генерала М.А. Козлова, на территории Орловской и Курской областей в окружении осталось не менее 3 тыс. бойцов и командиров [3, с. 41]. Здесь же оказались бывшие советские военнопленные, сумевшие оказаться на свободе. Рассредоточившись в населенных пунктах под видом местных жителей, в феврале 1942 г. под влиянием разъяснительной работы они объединились в партизанский отряд им. Во- рошилова № 1. Вместе с присоединившимися жителями Хомутовского района его численность составила более 600 чел., а спустя месяц увеличилась до 860 человек. Вскоре этот отряд стал базой для создания самостоятельных партизанских формирований [11, с. 274, 277].
Отряды с преобладанием в их рядах военнослужащих, как правило, носили имена военных или государственных деятелей, в отличие от «местных» отрядов, принимавших названия районов формирования и базирования. Воинов-окруженцев, ставших партизанами, возглавляли кадровые офицеры. Их военнокомандная подготовка и боевой опыт позволяли успешно планировать и осуществлять выполнение боевых задач, поддерживать должную дисциплину в подразделениях.
Специфической чертой организации партизанской борьбы в Курской области стало формирование кадрового резерва ее участников на территории, не подвергшейся оккупации весной – летом 1942 года. Находясь в районном центре Старый Оскол, обком партии и УНКВД комплектовали партизанские отряды и разведывательно-диверсионные группы из числа коммунистов, оказавшихся в их распоряжении, в том числе эвакуированных из соседних областей Украины.
Основным препятствием в этой работе стало нежелание отдельных партийно-советских работников выполнять задания за линией фронта. При этом некоторые коммунисты выражали стремление отправиться на фронт. Всего за пять месяцев 1942 г. из формируемых отрядов было отчислено 27 чел. (15 из них – по состоянию здоровья, 11 – за дезертирство и симуляцию) [33, л. 60].
В июне 1942 г. начался второй этап оккупации Курской области, в ходе которого предполагалось начать борьбу созданных ранее партизанских отрядов восточных и юговосточных районов. Но повторилась ситуация осени 1941 г., когда из-за трусости команднополитического состава партизаны не смогли приступить к выполнению возложенных на них задач. В то же время следует заметить, что базирование партизан в степных восточных районах региона не имело реальных шансов по объективной причине отсутствия крупных лесных массивов.
С подобными проблемами столкнулись организаторы сопротивления оккупационному режиму в Воронежской области, допустившие просчеты при подборе и расстановке партизанских кадров, а также планировании мест их базирования. К началу оккупации 30 районов области, где был сформирован 51 отряд, смогли закрепиться в тылу противника только 15 из них (всего 303 чел.) [11, с. 279–280].
Значительная часть партийно-советской номенклатуры не обладала должными деловыми и морально-волевыми качествами для работы, не только сопряженной с риском для жизни, но и предполагающей руководство подчиненными в экстремальных условиях военного времени. Как правило, низкий уровень образования этих людей и их ускоренное продвижение по карьерной лестнице способствовали профессиональной деформации и отсутствию ожидаемых результатов при выполнении специальных заданий.
Стремительное продвижение немецко-фашистских войск по территории Воронежской области не позволило эвакуировать семьи многих партизан. По этой причине ряд бойцов и командиров, опасаясь репрессий в отношении своих родных со стороны оккупантов, вынужденно покидали партизанские отряды, легализуясь через регистрацию в немецких комендатурах. Подобная ситуация актуализировалась в регионе в связи с отсутствием надежных мест базирования отрядов. Как уже отмечалось, в Курской области данная проблема решалась через переход на нелегальное положение целыми семьями.
В Тамбовской области, не подвергавшейся вражеской оккупации, осенью 1942 г. было сформировано 118 партизанских отрядов и групп численностью 2 232 чел. [30, л. 192, 197– 198]. Как и в других регионах Центрального Черноземья, более 80 % потенциальных партизан являлись членами ВКП(б). Отсутствие в списках отрядов женщин на начальном этапе формирования так же являлось общим подходом к решению кадрового вопроса.
Привлечение женщин и девушек к выполнению специальных заданий на оккупированной территории было сопряжено с определенными трудностями. Организаторы партизанской борьбы делали на них ставку, полагая, что маршрутная разведчица или связная вы- зывает меньше подозрений у врага, чем выполняющий аналогичные задачи взрослый мужчина. Но, как показала мобилизационная и вербовочная практика УНКВД по Курской области, привлечь даже девушек-комсомолок к сотрудничеству было очень непросто. Многие из них проявляли неуверенность в себе, опасались, что не справятся с ответственным поручением. Поэтому под разными предлогами стремились отказаться от выполнения подобных заданий. В таких случаях отказниц не пугало даже привлечение к ответственности, вплоть до исключения из рядов ВЛКСМ.
Иное положение с отношением девушек к партизанской борьбе складывалось на оккупированной территории Курской области, где бесстрашием отличались разведчицы К.В. Молчанова, К.А. Сафронова, О.Д. Бобкова, А.Г. Ермакова и др. В партизанских отрядах женщины играли важную роль в вопросах оказания медико-санитарной помощи личному составу, а также на подсобно-хозяйственных работах в качестве поваров, кухонных рабочих, прачек. Есть и печальный пример того, как жена офицера РККА, сожительствуя с командиром михайловских партизан А.Т. Кожиным, стала передавать оккупантам собранную в штабе отряда оперативную информацию через своего отчима – немца по национальности [10, л. 11–11 об.].
Важным кадровым резервом партизанских отрядов на оккупированной территории стали молодые люди, не попавшие по возрасту под призыв в действующую армию. Согласно отчетным документам Курского обкома комсомола, с врагом боролись 824 члена ВЛКСМ [13, л. 23–24]. Подпольные молодежные организации были созданы инициативным порядком в десятках населенных пунктов северо-западных и западных районов области.
Реальные резервы для пополнения действовавших и создания новых партизанских отрядов на северо-западе Центрального Черноземья к концу 1942 г. составляли около 6 тыс. человек. Вовлечение местных жителей в борьбу с оккупантами сдерживалось дефицитом вооружения. По той же причине не вступали в партизаны воины-окруженцы, чье количество из-за летнего 1942 г. наступления противника заметно увеличилось [34, с. 445].
Зимой 1942–1943 гг. на территории оккупированных районов Курской области личный состав партизанских отрядов стал активно пополняться за счет местных ресурсов. Например, численность созданных в январе 1943 г. отряда им. Фрунзе возросла к марту 1943 г. с 88 до 608 чел., отряда им. Кирова – с 33 до 127 чел., отряда им. Ленина – с 60 до 450 чел. [32, л. 14, 15, 17, 19, 21]. Особое влияние на увеличение партизанских сил региона оказало начало крупного наступления Красной армии на советско-германском фронте, повлекшее за собой освобождение областей Центрального Черноземья.
Важным фактором подготовки партизанских кадров стало обучение их основам разведывательно-диверсионной и других специфических видов деятельности. Специальная школа по подготовке диверсионно-террористических групп для деятельности в тылу врага была организована в соответствии с постановлением бюро Курского обкома ВКП(б) в августе 1941 г. [18, л. 63–64]. В течение недели будущие партизаны осваивали основы подрывного дела, совершенствовали навыки владения боевым оружием и рацией [24, л. 1]. Обучение здесь прошли 514 курсантов, из которых сформировали 104 разведывательнодиверсионные группы [27, л. 9 об.].
Особое внимание преподаватели спецшколы уделяли изучению личностных характеристик курсантов. Но и целенаправленное наблюдение за их поведением не гарантировало полной уверенности в отобранном контингенте. После окончания учебы отказались идти в тыл противника комсомольцы А.В. Агеев, Н.Я. Гольцов, Н.Т. Богдаш-кин, Н.А. Селиверстов и др. [29, л. 147]. Психологическая неготовность к выполнению поставленных задач была связана не только с личными качествами отказников, но и недостаточным вниманием к морально-волевому тренингу в процессе обучения.
В целом сформированные в спецшколе диверсионно-террористические группы успешно выполняли задания, связанные с дезорганизацией вражеского тыла. Одними из первых были поощрены бойцы разведывательно-диверсионных групп М.С. Карабанов, С.А. Карпов, И.И. Бизюк. Всего же к январю 1942 г. за образцовое выполнение зада- ний командования ценные подарки были вручены 72 выпускникам Курской спецшколы УНКВД [20, л. 83].
12 мая 1942 г. при 4-м отделе УНКВД по Курской области в Старом Осколе была организована школа разведчиков. Постоянный контингент курсантов составлял 50 человек, которые подбирались из числа действующей агентуры, бойцов истребительных батальонов, комсомольцев и беспартийных патриотов [21, л. 82– 82 об.]. 17–19 мая 1942 г. на базе спецшколы УНКВД были организованы краткосрочные курсы командного состава партизанских отрядов перед направлением их в тыл противника [22, л. 205].
Воронежская область обладала большими возможностями специальной подготовки партизанских кадров. К декабрю 1941 г. на курсах, организованных 4-м отделом УНКВД, прошли обучение 63 связиста, 54 диверсанта, 143 командира партизанских отрядов и 1 849 партизан, хотя изначально предполагалось, что их количество к 10 декабря составит 3 171 чел. [11, с. 293].
Будущие воронежские партизаны окончили 106-часовые курсы подготовки партизанских кадров при спецшколе обкома ВКП(б), организованной в июле 1942 г. при содействии Военного совета Воронежского фронта в селе Садовое Аннинского района. К 1 ноября 1942 г. спецшкола насчитывала 291 выпускника, в ней продолжали обучаться 138 чел. [1, с. 4]. Партизанские кадры готовились в Сомовской разведшколе и спецшколе Репное, обучавшей будущих радистов.
В Павловском районе Воронежской области была открыта вторая спецшкола, готовившая разведчиков и диверсантов для заброски в южные районы Воронежской области. Перед выпускниками ставились задачи по ведению разведки; выявлению предателей и пособников оккупантов; уничтожению материальных ценностей, транспортных и складских объектов противника. После выполнения заданий они возвращались на базу для получения нового задания [16, л. 3].
По решению Тамбовского обкома ВКП(б) в декабре 1941 г. были организованы Мичуринская, Моршанская и Тамбовская (в г. Котовске) специальные школы [23, л. 187–189]. К 18 декабря 1941 г. только в Тамбовской спецшколе было подготовлено 26 инструкторов и 210 курсантов [28, л. 63]. Но уже в конце декабря 1941 г. из-за изменения обстановки на фронте занятия в спецшколах прекратились.
Возглавивший сопротивление оккупантам на северо-западе Центрального Черноземья Брянский штаб партизанского движения (далее – БШПД) осенью 1942 г. организовал 10-дневные учебные занятия с личным составом действующих партизанских отрядов. В соединении Д.В. Емлютина (южная зона Брянских лесов), где дислоцировались и партизанские отряды западных районов Курской области, были организованы курсы командиров и специалистов минно-подрывного дела, на которых проходили обучение 60 и 83 человека соответственно [15, л. 99–100].
Спецшкола БШПД подготовила 103 диверсанта и 18 руководителей разведывательнодиверсионных групп, провела недельные курсы командиров и комиссаров отрядов прифронтовых районов с охватом 38 человек. Основным профилем спецшколы к концу 1942 г. была подготовка подрывников и радистов [8, л. 112]. Результатом работы спецшколы БШПД стала активизация разведывательно-диверсионной деятельности подведомственных партизанских формирований.
Результаты. Попытка проведения подготовительных мероприятий по организации партизанской борьбы до начала оккупации территории Центрального Черноземья не привела к ожидаемым результатам. Формальный подход к отбору партизанских кадров оказал негативное влияние на начало организованного сопротивления противнику в первые месяцы оккупации. Кадровый кризис коснулся как номенклатурных партийно-советских работников, так и рядовых коммунистов, отобранных для выполнения специальных заданий в тылу врага, но оказавшихся неспособными к этому по морально-психологическим качествам. Все попытки решить проблему количественными, а не качественными изменениями направляемого через линию фронта контингента не увенчались успехом. Ситуация с пополнением партизанских сил исправилась за счет осознанного притока в их ряды местного населения в связи с изменением положения на фронте и в тылу. Обучение в спецшколах УНКВД способствовало повышению эффективности разведывательно-диверсионной деятельности партизан, несмотря на выявляемые кадровые просчеты.