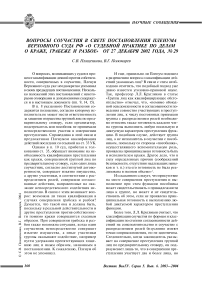Вопросы соучастия в свете Постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 года, № 29
Автор: Плащенкова С.В., Пономарев В.Г.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 6, 2003 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14972567
IDR: 14972567
Текст статьи Вопросы соучастия в свете Постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 года, № 29
О вопросах, возникающих у судов в процессе квалификации деяний против собственности, совершенных в соучастии, Пленум Верховного суда уже неоднократно упоминал в своих предыдущих постановлениях. Несколько положений этих постановлений с некоторыми оговорками и дополнениями содержатся и в настоящем документе (пп. 9, 14, 15).
В п. 8 указанного Постановления содержится положение, согласно которому исполнитель не может нести ответственность за хищение имущества группой лиц по предварительному сговору, если организатор, подстрекатель или пособник не принимали непосредственного участия в совершении преступления. Справедлива в этой связи и предложенная Пленумом квалификация действий последних со ссылкой на ст. 33 УК.
Однако в п. 10 суд, прибегая к толкованию ст. 35, обращает внимание на необходимость квалификации преступления как кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, если один лишь соучастник, согласно достигнутой договоренности, совершает изъятие имущества, а другие участники, в соответствии с распределением ролей, совершили согласованные действия, направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю. В связи с этим возникает вопрос: возможна ли такая квалификация в случаях совершения грабежа и разбоя? Думается, что такой она и должна быть, поскольку в реальной действительности и другие преступления против собственности помимо кражи совершаются сходным образом. При совершении грабежа и разбоя также возможна ситуация, когда один соучастник непосредственно совершает изъятие имущества, а иные участники группы оказывают содействие, например путем удержания препятствующих хищению лиц и иным образом, названным в постановлении. К сожалению, Пленум об этом не упомянул.
И еще, правильно ли Пленум подошел к разрешению вопроса о квалификации действий указанных лиц? В связи с этим необходимо отметить, что подобный подход уже давно известен уголовно-правовой науке. Так, профессор Л.Л. Кругликов в статье «Группа лиц как квалифицирующее обстоятельство» отмечал, что, «помимо обоюдной осведомленности и согласованности поведения совместно участвующих в преступлении лиц, к числу постоянных признаков группы с распределением ролей необходимо относить также готовность каждого члена группы выполнить любую посильную и диктуемую характером преступления функцию. В подобном случае, действует группа лиц, а не исполнитель в соучастии с пособником, поскольку со стороны «пособника», осуществлявшего вспомогательную роль, проявлена принципиальная готовность быть и исполнителем кражи. Другое дело, что в силу определенных причин (соображений безопасности, отсутствия надлежащих навыков и т. п.) эта его готовность не была реализована в полном объеме»1.
Из сказанного следует, что присутствие на месте совершения преступления и выполнение при этом функции пособника может свидетельствовать о принадлежности лица к группе, но может и не свидетельствовать об этом, если не проявлена принципиальная готовность к выполнению любой диктуемой характером преступления функции.
Более того, Л.Л. Кругликов считает, что классификация соучастия по формам и классификация по степени согласованности действий на соисполнительство и соучастие с распределением ролей безусловно имеют точки соприкосновения, но не идентичны. Следовательно, когда законодатель указывает на совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, он подразумевает лишь то, что в совершении преступления участвует два и более лица, но совершенно не обязательно, чтобы все они выступали в роли исполнителей (соисполнителей) преступления.
Однако такая квалификация является не единственно возможной в указанной ситуации. Профессор Н. Лопашенко считает, что положение, содержащееся в ч. 1 п. 10 нового Постановления, следует признать ошибочным. Аргументируя свою позицию, она отмечает, что в ч. 2 ст. 35 УК РФ ничего не говорится о том, что соисполнительство в группе лиц по предварительному сговору понимается иначе, чем соисполнительство в простой группе. Таким образом, по ее мнению, «действия, направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в совершении преступления», не могут быть расценены как непосредственное совершение преступления; это не что иное, как пособничество в преступлении, то есть содействие «совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий» (ч. 5 ст. 33 УК)2.
Закономерно возникает вопрос: что понимать под «непосредственностью» совершения преступления? Прилагательное непосредственный (непосредственное, непосредственная) в русском языке имеет несколько значений. Так, в словаре С.И. Ожегова оно определяется как «прямо следующий после кого-, чего-нибудь, прямо вытекающий из чего-нибудь, без посредствующих звеньев, участников...»; «следующий без размышления внутреннему влечению»3. Следовательно, такое толкование предполагает оценку совершения действий исходя из внутренней готовности (внутреннего влечения), а также прямо вытекающих из действий исполнителя как непосредственного участника.
На наш взгляд, более правильной является квалификация, предложенная профессором Л.Л. Кругликовым. Дело в том, что ч. 2 ст. 35 УК РФ не подлежит расширительному толкованию, а следовательно, в ней нельзя усмотреть упоминание на соисполнительство при совершении преступления группой лиц по предварительному сговору. При этом, как правильно заметил Г.А. Кригер, «в законе (в Особенной части УК) говорится не о любом соучастии с предварительным сговором, а о группе лиц, совершающих хищение по предварительному сговору»4.
Вызывает некоторые сомнения и формулировка п. 11 названного Постановления. В частности, что подразумевает Пленум, говоря об ответственности лица, присоединившегося в процессе совершения кражи, грабежа или разбоя к группе лиц по предварительному сговору или организованной группе, указывая на то, что данное «лицо должно нести ответственность лишь за конкретные действия, совершенные им лично»? Не означает ли это, что суд предлагает квалифицировать деяние такого лица как единственного исполнителя соответствующих преступлений? Думается, что нет. Объективной формой такого соучастия является «группа лиц», состоящая из двух и более соисполнителей. Несмотря на отсутствие предварительного сговора на совершение преступления между уже состоявшейся группой, начавшей совершение преступления, и примкнувшим лицом, существует минимальная согласованность их действий, предполагающая знание соучастников о присоединяющемся преступном поведении другого и желание либо сознательное допущение соединения преступных усилий и вытекающего из этого преступного результата. Несмотря на то, что фактически все указанные лица участвуют в совершении одного и того же деяния, указанный фактор позволяет прийти к выводу, что в данном случае невозможна единая квалификация, так как преступление, совершенное примкнувшим лицом, является кражей, грабежом или разбоем, совершенным им в составе группы лиц, однако за пределами состоявшегося сговора между членами организованной группы или группы лиц по предварительному сговору. Возникает вопрос о квалификации содеянного. Часть 2 ст. 158 УК благодаря внесенным изменениям содержит теперь квалифицирующий признак «группа лиц». Однако соответствующий признак отсутствует среди квалифицирующих признаков грабежа и разбоя. Следовательно, в случае совершения кражи действия примкнувшего лица следует квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 158, а в случаях совершения грабежа и разбоя при отсутствии иных отягчающих обстоятельств — по ч. 1 соответствующих статей с указанием в приговоре на совершение преступления в составе группы лиц, как на обстоятельство, которое может повлиять лишь на размер назначаемого наказания.
Заслуживает внимания позиция, занятая Пленумом в п. 12 относительно отсутствия признака «группа лиц» в преступлениях, совершаемых посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу их возраста или невменяемости. Вопреки предыдущему Постановлению, Верховный суд пришел к выводу, что действия лица, использовавшего для совершения преступления указанных лиц, подлежит квалифицировать как действия непосредственного исполнителя. В целом с данной позицией следует согласиться за оговоркой того, что исполнитель здесь должен именоваться посредственным.
Вызывает обоснованные возражения указание на признак «заведомости» по отношению к отсутствию признаков субъекта у лица, вовлеченного в совершение преступления, положенный в п. 13 в качестве основания для квалификации действий лица, организовавшего преступление либо склонившего к его совершению, но не принимавшего непосредственного участия в его совершении как посредственного исполнителя преступления. Возникает ситуация, при которой, если вовлекающее лицо не знало об отсутствии признаков субъекта преступления у вовлеченного участника, то содеянное им не может признаваться преступлением, предусмотренным действующим УК. Иными словами, если лицо было уверено в том, что организовывает преступление или склоняет к его совершению участника, достигшего возраста уголовной ответственности и вменяемого, а в действительности хотя бы один из признаков субъекта у данного участника отсутствует, то получается следующее: совершается общественно опасное деяние, причиняется вред уголовно-охраня-емому объекту, существует причинная связь между действиями лица, непосредственно совершившим деяние, и наступившими последствиями, то есть присутствуют все элементы состава преступления, кроме субъекта, так как вовлекающее лицо не приняло участия в совершении преступления, а лицо, совершавшее деяние, не обладает необходимыми признаками. Учитывая сказанное, думается, что указание на признак «заведомости» в действиях вовлекающего лица следует устранить.
Существует еще один выход из сложившейся ситуации. Действия лица, склонившего к совершению преступления другое лицо, не обладающее признаками субъекта преступления, фактически представляют собой подстрекательство, но поскольку умысел на совершение преступления не получает полного развития по независящим от данного лица причинам (ему не известно об отсутствии у подстрекаемого им лица одного из признаков субъекта преступления), то ему не может вменяться оконченный состав преступления и его действия, по нашему мнению, надлежит квалифицировать как покушение на подстрекательство.
Представляется неполной формулировка последнего абзаца п. 15 указанного Постановления, где речь идет о подстрекательстве к созданию организованной группы для совершения конкретных преступлений лицом, которое не принимало непосредственного участия в совершении этих преступлений созданной группой. С предложенным Пленумом решением этого вопроса следует согласиться. Однако, думается, что подход к квалификации, предложенный Верховным судом, в данном случае не изменится, если на месте подстрекателя окажется пособник, о котором следовало бы упомянуть. Следовательно, лицо, содействовавшее совершению преступления такой группой, например, путем предоставления орудий и средств или информации, но не принимавшее в нем непосредственного участия, также подлежит ответственности как соучастник совершения преступления организованной группой преступления со ссылкой на часть четвертую ст. 33 УК РФ.
Список литературы Вопросы соучастия в свете Постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 года, № 29
- Кругликов Л.Л. Проблемы теории уголовного права: Избранные статьи. 1982-1999 гг. Ярославль, 1999. С. 165.
- Лопашенко Н. Новое Постановление Пленума Верховного суда РФ по хищениям//Законность. 2003. № 3. С. 33.
- Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов/Под ред. Н.Ю. Шведовой. 20-е изд., стереотип. М., 1989. С. 329.
- Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. М., 1974. С. 220-221.