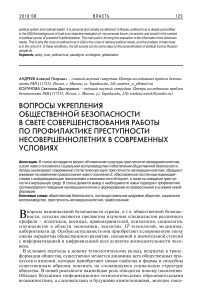Вопросы укрепления общественной безопасности в свете совершенствования работы по профилактике преступности несовершеннолетних в современных условиях
Автор: Андреев Алексей Петрович, Кокунова Светлана Дмитриевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 8, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется вопрос об изменении структуры преступности несовершеннолетних, о роли нового поколения в социальном воспроизводстве и обеспечении общественной безопасности. Авторы анализируют современную статистическую карту преступности несовершеннолетних; обращают внимание на изменение правосознания нового поколения Z, обусловленное постоянным взаимодействием с информационными технологиями и влиянием сети Интернет, а также на смещение преступности в виртуальную среду. В статье делается вывод о необходимости новых подходов к профилактике противоправного поведения несовершеннолетних и формированию их правосознания в условиях новой формации.
Общественная безопасность, постиндустриальное цифровое общество, социальное воспроизводство, преступность несовершеннолетних, правосознание
Короткий адрес: https://sciup.org/170170789
IDR: 170170789 | DOI: 10.31171/vlast.v26i8.6056
Текст научной статьи Вопросы укрепления общественной безопасности в свете совершенствования работы по профилактике преступности несовершеннолетних в современных условиях
В условиях перехода к новому технологическому укладу, ведущему к трансформации общества, существенно меняется динамика всех общественных процессов и явлений, которые приобретают новые свойства и формы и способны существенным образом повлиять на сложившуюся социальную структуру общества. В новой реальности важнейшая роль отводится новому поколению. Обладая бóльшими информационно-технологическими образовательными возможностями, а следовательно и будущими компетенциями, молодое поко- ление принимает на себя колоссальную ответственность за построение постиндустриального общества.
Влияние информационных процессов в условиях глобализации общества и развития информационного пространства на социально-экономическое состояние общества, особенно на молодежь, не имеющую в достаточной мере выработанного иммунитета от информационного воздействия, в должной мере освещено в работе группы авторов под общей редакцией В.Л. Шульца и В.В. Кульбы [Шульц и др. 2015: 25-34].
Еще в 40-х гг. прошлого столетия К. Мангейм обращал внимание на то, что молодежь – это один из скрытых ресурсов, которые имеются в каждом обществе и от мобилизации которых зависит его жизнеспособность. Ученый уже тогда пришел к выводу, что динамичные общества должны опираться на молодежь. Особая ее функция состоит в том, что она – «оживляющий посредник, своего рода резерв, выступающий на передний план, когда такое оживление становится необходимым для приспособления к быстро меняющимся или качественно новым обстоятельствам»1.
Современное молодое поколение как основной субъект и детерминант общественного развития должно обладать способностью обеспечить функционирование интеллектуально-цифрового общества и безопасность национальногосударственной среды, во многом обусловленной процессами глобализации. Сегодня на молодое поколение ложится ответственность не просто за воспроизводство всей социальной структуры, но за воспроизводство ее в новом технологическом качестве, ориентированном на цифровую среду обитания.
Цифровая среда имеет сложную картографию и состоит из ряда развивающихся сегментов [Овчинский и др. 2014: 6]:
-
• Web 1 – первый простой сегмент, включающий правовые, корпоративные, общественные, персональные порталы и сайты, блоги, онлайн-СМИ;
-
• Web 2 – веб социальных сетей, контент которых создается, как правило, самими пользователями;
-
• Web 3 – веб мобильных приложений;
-
• «невидимый Интернет» – ресурсы, которые не обнаруживаются поисковыми системами, а также порталы и сайты, доступ к которым предполагает либо платный характер, либо наличие специального разрешения;
-
• «Интернет вещей» – соединение через Интернет с управляющими центрами различных объектов физического мира (электросети, водоснабжение, теплоснабжение и т.п.), а также с домашним оборудованием (холодильники, стиральные машины и т.п.);
-
• «бодинет» – возможность встраивать элементы, передающие информацию, в тело, предметы гардероба и нательные аксессуары;
-
• dark web (темный веб) – эти ресурсы широко используются преимущественно для противоправной деятельности, киберпреступности, торговли наркотиками, оружием и т.д., а также для целенаправленных акций для подрыва государственного суверенитета;
-
• «сети денег» включают в себя специализированные телекоммуникационные сети, связывающие крупнейшие банки, а также платежные системы типа PayPal , Яндекс.Деньги, Биткоин и т.п. [Овчинский и др. 2014: 10].
В этом мире растет и формируется поколение Z, имеющее с рождения опыт взаимодействия с информационно-цифровыми технологиями, что определяет их сознание и поведение. Поколение Z называют также homelanders – домо- седы. Homelanders не просто читают, получают информацию, играют в игры и общаются в Интернете – они живут в Сети. Интернет и информационное пространство являются для них естественным продолжением личностного или группового пространства [Цымбаленко].
Свободно ориентируясь во всех названных выше сегментах информационной сети, пользователи способны влиять на тенденции легального либо противоправного использования и развития информационных ресурсов. От того, насколько устойчив правопорядок и насколько развит уровень правосознания нового «цифрового» поколения, будет зависеть безопасность национального цифрового пространства.
Преступность как явление, противоположное правопорядку, оказывает непосредственное влияние на формирование как индивидуального, так и общественного правосознания, препятствует развитию любого общества.
На формирование правосознания нового поколения продолжают оказывать влияние те же криминогенные факторы, которые оказывают влияние на современную подростковую преступность, – безнадзорность, наркомания, проявления агрессии в обществе, внутренняя и внешняя миграция, распространение экстремизма в молодежной среде, вовлечение подростков и молодежи в террористическую деятельность, деградация моральных ценностей и многие другие.
В то же время, будучи активными пользователями сети, подростки приобретают новое мироощущение и сознание, для которого не характерна ориентация на нормы права. В виртуальном пространстве существуют свои законы и правила поведения. К примеру, нарушение чужого личного пространства не считается предосудительным, издевательства в сети (троллинг) считаются нормой, злоумышленники, добывающие конфиденциальную информацию в обход систем защиты (хакеры и крэкеры), возводятся в ранг высоких профессионалов и т.д. Нормы права для них неинтересны, а правопорядок лежит в плоскости, отличной от плоскости их существования.
В современном мире эти факторы имеют глобальный характер и во многом обусловлены общемировыми тенденциями.
Многие исследователи в области психологии приходят к выводу о значительном росте интеллекта поколения Z . В то же время отмечается, что у молодого поколения снижаются показатели динамометрии, растет уровень наркомании, заболеваемости и смертности от наркотиков, возрастает социальное аутсайдер-ство, снижение способности к коллективным формам обучения и труда. Таким образом, можно предположить, что высокий уровень IQ не выполняет роль социозащитного фактора, а в некоторых случаях, напротив, используется для поиска новых форм девиаций, связанных с возможностями новых технологий. Подростковая преступность плавно перетекает в интернет-пространство.
Современная статистическая карта преступности несовершеннолетних, демонстрируя противоречивые тенденции, по нашему мнению, подтверждает вышеизложенное предположение.
Начиная с 80-х гг. прошлого века уровень преступности несовершеннолетних всегда имел стойкую тенденцию роста. В доперестроечные годы в среднем через каждые 5 лет число несовершеннолетних, совершивших преступления, увеличивалось на 11–12%. Начиная с 1991 г. в динамике преступности несовершеннолетних произошли еще более негативные изменения. Так, число несовершеннолетних, совершавших преступления в период с 1991 по 1995 г., увеличилось уже на 43% и достигло высшего уровня в 2000 г. – 190 тыс. С 2000 г. число ежегодно совершаемых несовершеннолетними преступлений стало постепенно (примерно на 5–7% в год) снижаться и в 2006 г. составило уже 150 тыс. преступлений в год.
Однако с 2007 г. отмечается резкий спад числа совершенных подростками преступлений при том, что этот период характеризуется начинающимися кризисными явлениями в экономике, существенным ухудшением наркоситуации и ростом преступности в целом, т.е. факторами, которые обычно называются в числе причин, повышающих уровень преступности среди несовершеннолетних.
По данным Федеральной службы государственной статистики1, уровень преступности несовершеннолетних с 2000 по 2017 г. снизился более чем на 70%!
Таблица 1
Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, в т.ч. в соучастии, за период с 2000 по 2017 г., тыс.
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
195,4 |
185,37 |
139,68 |
145,36 |
154,14 |
154,37 |
150,26 |
139,09 |
116,09 |
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
94,72 |
78,54 |
71,91 |
64,27 |
67,22 |
59,54 |
61,83 |
53,73 |
48,28 |
На диаграмме кривая преступности за этот период выглядит следующим образом (см. рис. 1).
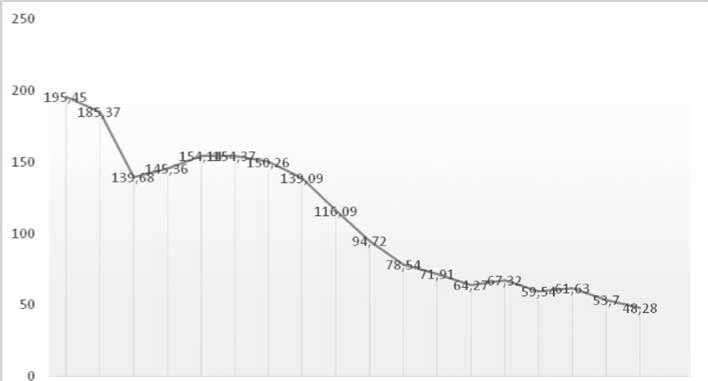
2000 20012002 2003 2004 2005 20062007 2008 2009 2010 20112012 2013 2014 2015 2016 2017
Рисунок 1. Динамика уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними, в т.ч. в соучастии, за период с 2000 по 2017 г.
Данные Генеральной прокуратуры РФ за истекший период 2018 г. (январь– май) свидетельствуют о сохранении тенденции снижения преступности несовершеннолетних, несмотря на некоторое увеличение показателей по отдельным периодам года.
Так, по данным Ежемесячного сборника о состоянии преступности в России за май 2018 года1, число преступлений, совершенных несовершеннолетними за период с января по май 2018 г., составило 16 991. При этом расчетный показатель за 12 месяцев текущего года предполагается ниже значения 2017 г.
К сожалению, в последнее время в научно-правой сфере изучению причин резкого снижения уровня преступности несовершеннолетних не уделено должного внимания. Не выявлены и не проанализированы факторы, повлиявшие на резкое снижение показателей уровня преступности несовершеннолетних, не исследована обоснованность приведенных данных, их достоверность и соотносимость.
Основными причинами столь небывалого снижения уровня преступности несовершеннолетних полагаются:
-
1) демографическая ситуация: снижение с 2000 г. почти вдвое числа несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности (14–18 лет), за счет снижения рождаемости и негативных показателей смертности населения России;
-
2) возникшее численное преимущество сотрудников субъектов профилактики над сократившимся числом несовершеннолетних, в основном за счет числа сотрудников оперативных подразделений и подразделений по профилактике и межведомственному взаимодействию органов по контролю за оборотом наркотиков (до 2016 г.);
-
3) усиленная система профилактики, пропаганда здорового образа жизни, принятие соответствующих целевых программ;
-
4) сокрытие правонарушений несовершеннолетних как в быту, так и в образовательных учреждениях.
Однако, учитывая психологические особенности подростковой среды и особенности современных тенденций развития общества и индивида, удовлетворяться только этими объяснениями было бы несправедливо и в какой-то мере опасно.
Представляется, что немалая доля из тех 70%, на которые произошло снижение уровня преступности несовершеннолетних за последние 15 лет, приходится на трансформацию уличной преступности в сетевую.
Учитывая способности подростков в овладении компьютерными технологиями, даже такие преступления, как мошенничество в сети Интернет (картинг, фишинг, попрошайничество), создание и распространение вредоносных программ и вирусов, неправомерный доступ к компьютерным сетям (хакерство), создание организованных преступных групп, торговля оружием, терроризм и др. становятся доступными и для лиц, не достигших возраста 18 лет. А такие явления, как интернет-торговля наркотиками, сетевая педофилия, кибермоб-бинг (травля и доведение до самоубийства через Интернет), наиболее популярны как раз в подростковой среде.
Так, например, впервые широко о проблеме суицидальной пропаганды в Интернете заговорили в конце 2014 г., когда в соцсетях резко активизировались сообщества суицидальной направленности. Вступить в них мог любой желающий. Число подписчиков в некоторых группах достигало 10–12 тыс. чел. В этих группах размещались видеозаписи со сценами самоубийств, психоделический контент, подробно описывались способы совершения самоубийств, обсуждались громкие истории подростковых самоубийств с героизацией погибших детей, самоубийство преподносилось как способ освободиться от всех проблем, стать известным и популярным1.
Преступления, совершаемые в киберпространстве, совершаются в условиях изоляции и самоизоляции и часто по своей сути имеют латентную форму. Доказывание их нередко затруднено как с уголовно-правовой, так и с процессуальной точки зрения. Кроме того, возросшая толерантность общества к антиобщественным и аморальным проявлениям, особенно в сети Интернет, не способствует выявлению таких преступлений. Ситуация осложняется глобальным социальным аутсайдерством, которому подвержены различные социальные и возрастные группы, в первую очередь старшие школьники.
Эти обстоятельства свидетельствуют об усложнении структуры преступности несовершеннолетних.
Однако обнадеживает тот факт, что даже на фоне резкого снижения показателей преступности лиц, не достигших возраста 18 лет, государственная политика все же не снизила интенсивность регулирования деятельности по профилактике преступности среди несовершеннолетних.
22 марта 2017 г. правительство РФ утвердило Концепцию развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года2.
Как указывается в Концепции, участниками преступлений в 2016 г. стали 48 600 подростков. Несовершеннолетними и при их соучастии совершено 53 700 преступлений. В конце 2016 г. на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел состояли 142 800 несовершеннолетних. В указанном периоде снизилось число преступлений, совершаемых подростками в состоянии алкогольного опьянения, однако выросло число преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения. Как отмечается в документе, не теряет актуальности проблема повторной преступности несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. В 2016 г. 15,5% несовершеннолетних, состоявших на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, ранее привлекались к уголовной ответственности, более 27,7% осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Следует обратить внимание и на повышение удельного веса групповых, организованных, заранее подготавливаемых, изощренных и технически оснащенных преступлений, совершаемых лицами, не достигшими возраста 18 лет. Доля групповых преступлений в преступности несовершеннолетних обычно в 2–5 раз выше, чем аналогичный показатель преступности взрослых. Ежегодно более половины всех несовершеннолетних совершают преступления в составе групп. Зачастую несовершеннолетние объединяются в целые преступные формирования, где имеется, как правило, взрослый консультант. Многие из активных членов преступных молодежных группировок становятся в последующем лидерами криминальных сообществ. На протяжении ряда лет, как отмечено в Концепции, сохраняется высокая криминальная активность подростков младших возрастных групп.
Таким образом, можно обоснованно прийти к выводу, что на фоне резкого снижения общего уровня преступности несовершеннолетних происходят следующие явления:
– повышается число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием;
– повышается число преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием, в составе преступных групп, в т.ч. с применением оружия;
– растет число преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения;
– повышается уровень вовлеченности в противоправную деятельность несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности;
– существенно меняется структура преступности несовершеннолетних в сторону отягчения;
– растет число противоправных и антиобщественных проявлений в отношении самих несовершеннолетних.
Все эти факторы повышают концентрацию и общественную опасность преступности несовершеннолетних, усложняют криминогенную ситуацию, являющуюся элементом воспроизводства преступности и ее непременным спутником.
Наряду с этим растет число преступлений, совершаемых несовершеннолетними с использованием компьютерных технологий. Меняется структура преступности несовершеннолетних: она делится на преступность материальную и преступность виртуальную. Уже становится очевидным, что сам по себе более высокий уровень интеллекта нового поколения, его информационно-технологическая образованность и потенциальные компетенции не обеспечивают снижение криминогенности будущего взрослого социума.
Представляется, что это обстоятельство должно выступать побудительным мотивом для модернизации подходов к профилактике противоправного поведения несовершеннолетних и формированию их правосознания в условиях новой формации.
Список литературы Вопросы укрепления общественной безопасности в свете совершенствования работы по профилактике преступности несовершеннолетних в современных условиях
- Овчинский В.С. и др. 2014. Россия и вызовы цифровой среды: рабочая тетрадь (гл. ред. И.С. Иванов). РСМД. М.: Спецкнига. 40 с. Доступ: http: russiancouncil.ru
- Цымбаленко С.Б. Российские подростки в информационно-коммуникативном обществе. Доступ: http://mim.org.ru/phocadownload/cimbalenko.pdf (проверено 16.07.2018)
- Шульц В.Л., Кульба В.В., Шелков А.Б., Чернов И.В. 2015. Сценарный анализ и управление геополитическим информационным пространством. Центр исследования проблем безопасности РАН. М.: Наука. 542 с