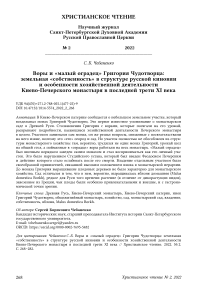Воры и "малый оградец" Григория Чудотворца: земельная "собственность" в структуре русской киновии и особенности хозяйственной деятельности Киево-Печерского монастыря в последней трети XI века
Автор: Чебаненко Сергей Борисович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 2 (101), 2022 года.
Бесплатный доступ
В Киево-Печерском патерике сообщается о небольшом земельном участке, который возделывал монах Григорий Чудотворец. Это первое известное упоминание о монастырском саде в Древней Руси. Столкновения Григория с ворами, которые посягали на его урожай, раскрывают подробности, касающиеся хозяйственной деятельности Печерского монастыря в целом. Участком занимался сам монах, он же решал вопросы, связанные с посягательствами на него извне, поэтому это «его» огород и сад. Но участок полностью не обособлялся из структуры монастырского хозяйства: там, вероятно, трудился не один монах Григорий, урожай шел на общий стол, а пойманные в «оградце» воры работали на весь монастырь. «Малый оградец» был явочным порядком заведен самим монахом и стал восприниматься как его личный участок. Это было нарушением Студийского устава, который был введен Феодосием Печерским и действие которого стало ослабевать после его смерти. Владение отдельным участком было своеобразной привилегией, связанной высоким положением инока в монастырской иерархии. До монаха Григория выращивание плодовых деревьев не было характерно для монастырского хозяйства. Сад отличался и тем, что в нем, вероятно, выращивалась яблоня домашняя (Malus domestica Borkh), редкое для Руси того времени растение (в отличие от дикорастущих видов), завезенное из Греции, чьи плоды были особенно привлекательными и внешне, и с гастрономической точки зрения.
Древняя русь, киево-печерский монастырь, киево-печерский патерик, инок григорий чудотворец, общежитийный монастырь, хозяйство, сад, монастырский сад, владение, собственность, яблоня, malus domestica borkh
Короткий адрес: https://sciup.org/140293643
IDR: 140293643 | УДК: 94(470)+271.2-788-055.1(477-25)-9
Текст научной статьи Воры и "малый оградец" Григория Чудотворца: земельная "собственность" в структуре русской киновии и особенности хозяйственной деятельности Киево-Печерского монастыря в последней трети XI века
Одной из заметных фигур Печерского монастыря второй половины XI в. был монах Григорий Чудотворец (погиб в 1093 г.), пришедший в обитель еще в игуменство прп. Феодосия. Сообщая примечательные случаи из его жизни, Киево-Печерский патерик также указывает: «имеаше же сей блаженный малъ оградець, иде же зелие сеаша и древа плодовита» (Патерик, 1911, 97). Такой тягой к возделыванию растений, достойной отдельного упоминания, не отличались другие монахи1, хотя им и приходилось участвовать в совместных сельскохозяйственных работах.
Славу чудотворца монах Григорий, получил, кроме прочего, сталкиваясь со злоумышленниками и творя в их отношении чудеса. Для сюжета нашей статьи криминально-правовой аспект этих известий имеет факультативное значение2; вместе с тем эти истории раскрывают важные подробности, касающиеся хозяйственной деятельности монаха: известно о трех его встречах с ворами, и дважды последние зарились на урожай Григория. Эти рассказы позволяют сделать определенные заключения об особенностях владения и распоряжения иноками общежитийных монастырей некоторым имуществом и земельными участками, зарождении монастырского садоводства в Древней Руси и истории культивирования в монастырях некоторых растений.
Первая история о монахе Григории и ворах рассказывает о краже книг у монаха: застигнутые воры были им отпущены, но их задержал «градъский властелинъ» и «повеле мучити татии», монах Григорий их освобождает взамен своих книг, и они «въдашася на работу братии». В другой раз воры пытались украсть «зелия» и плоды «древ плодовитых» из его «малого оградца», но во время кражи чудесным образом были обездвижены на два дня и, будучи освобождены иноком, в итоге навсегда остались при монастыре. В третьем случае злоумышленники сначала обманом выпросили у монаха Григория ценные книги, якобы на выкуп от смерти своего товарища (чью действительную смерть и предсказал старец), а затем отправились ночью воровать яблоки, которые выращивал монах (в результате чего и погиб их товарищ). Подельники погибшего тоже окончили свой век в Печерском монастыре (Патерик, 1911, 96–98).
По мнению большинства исследователей, хотя в Киево-Печерском патерике широко используются агиографические штампы и заимствования из других патериков и житий, в основе большинства сказаний лежат реальные ситуации. Так, история о мошенниках и краже ими яблок не находит прототипа в переводной агиографии и, скорее всего, имеет местное происхождение (подр. см.: [Чебаненко, 2017]). Таким образом, со значительной степенью вероятности мы можем заключить, что некоторые известия о монахе Григории, в частности, касающиеся его сада и огорода (в том числе и его столкновения с ворами), имеют под собой определенную реальную основу.
Что же это был за «малъ оградець», который «имеаше» монах Григорий? Известно, что в распоряжении Печерского монастыря было значительное количество земельных владений, которые рассматривались как общемонастырские угодья. Уже во времена прп. Феодосия у монастыря были села3, которые, как и участок инока Григория, становились объектами посягательств воров и даже целых шаек «разбойников» (Житие Феодосия Печерского, 1997, 384, 406, 412, 418, 426; Патерик, 1911, 65). Быть может, этот участок имел отношение к одному из монастырских сел4 или даже словами «малъ оградець» в Патерике было обозначено небольшое село, которым, как хозяйственной единицей, управлял монах Григорий? Села, которыми владел монастырь, часто были небольшими и представляли собой огороженные дворы или усадьбы, в которых монахи находились лишь определенное время, а постоянно в таких селах пребывали лишь хозяйственные управители — тиуны и приставники [Пузанов, 2007, 18–19]5.
Полагаем все же, что вряд ли это можно отнести к нашему случаю. Прежде всего, Патерик подчеркивает, что участком владел именно инок Григорий, а не монастырь: «имеаше же сей блаженный малъ оградець». Как видно из описания Патерика, «огра-децъ» монаха не имел отношения к селам: он располагался рядом с кельей монаха, неподалеку обычно находится много других иноков, совсем рядом находится церковь, куда мимо участка старца братия ходит на молитву, а в рассказах о чудесах старца с ворами не упоминается ни о селе, ни о какой-либо иной хозяйственной активности, кроме собственно самого «оградца» (Патерик, 1911, 97–98). Последний находится где-то в самом монастыре, а не за его пределами. Кроме того, кельи монахов, кажется, не устраивались в окрестных селах6. Итак, это не очень большой земельный участок при келье в монастыре7, «келейный» огородик [Харин, 2015, 187], которым занимался сам монах8.
Но мог ли Григорий, живя в монастыре, иметь «свой» (или действительно — свой) огород и сад? На каком основании он «имеаше» «малъ оградець», если этому противоречит действие в монастыре общежитийного устава, который был введен прп. Феодосием Печерским и соблюдения которого он строго требовал? Как указывал М. Д. Приселков, в соответствии с правилами общежития владение частным имуществом и при прп. Феодосии, и после него было запрещено, в собственности братьев не могло быть ни книг, ни тем более никакого «малого оградца» [Приселков, 2003, 145–146].
Современные исследователи не столь категоричны на этот счет, допуская (но при этом обычно подчеркивая, что характерно это больше для послефеодоси-евского периода), что монахи вполне могли иметь определенное имущество (те же книги), в том числе сохранять за собой то, которым они владели и в мирской жизни [Гайденко, 2015, 66; 2017а, 87; 2017b; Харин, 2015, 186; Васиховская, 2019, 51, 126–128, 166]. Византийская практика передачи всего личного имущества вновь поступавших иноков в пользу монастыря не получила на Руси распространения [Гайденко, 2017а, 87]. Да и в самой Византии в это время в киновиях монахи могли иметь личное имущество [Каждан, 1971, 58–60].
Что касается владения земельным участком, не исключено, что огород-сад и не был собственностью инока Григория в том понимании, как об этом писал М. Д. Приселков (однако отрицая такую возможность) и некоторые другие исследователи (они говорят о «собственном», «своем» огороде, имуществе) [Черный, 2010, 66–65; Васиховская, 2019, 166]9. Возможно, это не был частный, «свой» участок в полном смысле слова, хотя именно монах им и занимался.
Действительно, как справедливо отмечал М. Д. Приселков относительно участка инока Григория, правила общежития не предполагают автономного ведения хозяйства монахами10. Вопрос о том, какой именно вариант (варианты) общежитийного устава был положен прп. Феодосием в основу устава Печерского монастыря, остается предметом дискуссии (см.: [Поппэ, 2011, 25–28, 33; Артамонов, 2013, 368, 385; Васихов-ская, 2019, 47–48, 111–115 и след.]). Мнения исследователей расходятся в том, какой именно устав был введен прп. Феодосием: прп. Феодора Студита11 или патр. Алексия12. Житие прп. Феодосия Печерского и Киево-Печерский патерик не позволяют определить, до какой степени полно был введен Студийский устав в Печерском монастыре [Бълхова, 2000, 2002, 35–36]. Кроме того, исследователи допускают, что устав прп. Феодосия содержал определенные отступления о принятого образца (подр. см.: [Абрамович, 1902, 190–193; Васиховская 2019, 49–50, 93]).
В любом случае, устав, принятый им, требует ведения общего хозяйства, общности и равенства труда всех монахов, что видно из описания монастырской жизни в Житии прп. Феодосия и других источниках. Отдельное ведение хозяйства, собственные земельные участки иноков не предусмотрены. Типикон патр. Алексия Студита, чей русский список XII в. дошел до нас полностью и считается многими исследователями уставом Печерского монастыря, исходит из тех же принципов, пусть и не содержит специальной оговорки о запрете самодеятельного заведения монахами личных огородов и садов13.
Между тем интересующий нас вопрос позднее специально рассматривается в некоторых русских общежитийных уставах. В Пространной редакции устава прп. Иосифа Волоцкого — «Духовной грамоте» (начало XVI в.), такой запрет содержится14. В разных списках Пространной редакции15 (и в разных частях самих списков) перечисление растений, которые монахам нельзя выращивать у своих келий, всегда начинается с яблонь, а перечень остальных «овощей» может варьироваться16. Надо полагать, это было довольно распространенным, но не одобряемым увлечением иноков.
Принимая мнение, что сельскохозяйственные занятия монаха Григория противоречили представлениям прп. Феодосия о монастырской жизни, нужно сказать, что после смерти последнего, учредителя и ярого поборника общежитийных правил, эти порядки смягчились. По словам Е. Е. Голубинского, довольно скоро после прп. Феодосия «истинное общежитие исчезло в самом Печерском монастыре» [Голубинский, 1904, 628]. Большинство исследователей придерживается такого мнения, различаются лишь их оценки динамики этого процесса, а также перечисления нарушений норм Студийского устава (см.: [Абрамович, 1902, 190–193; Голубинский, 1904, 628–632; Смолич, 1997, 32–37; Романов, 2002, 160–162; Щапов, 2002, 19; Бълхова, 2002, 35–36; Федотов, 2000, 43; Гайденко, 2015; Гайденко, 2016; Гайденко, 2017а; Гайденко, 2017b; Васиховская, 2019, 128, 131–140]).
На статус земельного участка, которым заведовал инок Григорий Чудотворец, может указать характер взаимоотношений старца с «татями» и дальнейшая их участь. Необходимо определить, перед кем именно они несут ответственность, отрабатывая свои провинности, — перед самим монахом Григорием или перед монастырем. В первом случае можно говорить, что, посягая на вещи, «зелие» и плоды «древ», они наносят ущерб имуществу старца, во втором — монастырской собственности17.
Некоторые ученые этих незадачливых воров (во всех указанных случаях или в некоторых из них) относят к «прощенникам»18, понимая под ними лиц, которые за совершенные преступления не несут положенного наказания, но взамен оказываются в зависимости от тех, на кого были направлены их преступления, «отрабатывая» свои провинности [Бахрушин, 1937, 66; Васиховская, 2019, 166–167]. Как пишет Н. С. Васи-ховская, в рассказах о монахе Григории все «пойманные воры становились „прощен-никами“, когда монастырь их „прощал“ за преступления и оставлял работать в своем хозяйстве» [Васиховская, 2019, 167].
Отметим, что Патерик так воров не называет. Относительно подобного понимания «прощенников» Б. Д. Греков отметил, что в случае с иноком Григорием воры были скорее наказаны, нежели полностью прощены, почему определение «прощенники» вообще вряд ли может быть применимо к этим ворам, ставшим работать на монастырь и превратившимся, по его мнению, в крепостных [Греков, 1953, 256–257].
Если говорить шире, то сама категория «прощенники» («пущенники») остается не вполне разгаданной: в источниках, где упоминается это слово, его содержание не раскрывается, а понимание их как «прощенных» или «отпущенных» преступников — не более, чем искусственная (но в принципе возможная) конструкция. И. Я. Фро-янов полагал, что приведенное выше определение — это догадки, а примеры использования терминов в источниках не дают оснований для таких уверенных заявлений, а самих «пущенников» можно определить как полусвободное население, близкое к освободившимся из рабства категориям [Фроянов, 2001, 471–472].
Как бы то ни было — можно ли назвать этих воров «прощенниками», или нет, — но они действительно после попытки хищения, будучи уличенными, не несут положенного наказания, а остаются работать при монастыре.
Последующая судьба воров демонстрирует определенную двойственность их положения по отношению к иноку Григорию и к монастырю. Прежде всего, их участь во всех случаях в конечном счете решается именно монахом Григорием19, никакие иные представители монастыря в этом плане не упоминаются. Похитителей книг он сначала отпускает, а затем выкупает у «градского властелина», начавшего было их правовое преследование; пойманных разорителей «малого оградца» старец отпускает на условиях дальнейшей работы в монастыре; третьих проходимцев, выманивавших книги и воровавших яблоки, он «осуди… в работу въ Печерьскомъ монастыре».
Но выступал ли монах Григорий здесь от своего имени, как пострадавший владелец, или, оставляя воров при монастыре, он выступал от имени корпорации, тем более что сам он был далеко не рядовым иноком и мог обладать определенными полномочиями для такого представительства перед внешним миром20?
Первое, полагаем, верно для случая хищения книг, которые могут рассматриваться как его личное имущество. Справедлива оценка ситуации В. О. Ключевским: в том, что «градъский властелинъ» «татие же отпусти» нужно видеть «только то, что Григорий отказался от частного взыскания за свою „обиду“ (курсив наш. — С. Ч. ), которое могло задержать воров в заключении, а судья, получив свою „продажу“, пеню за покушение на татьбу, не имел причин их более задерживать» [Ключевский, 1987, 244]. После этого воры «въдашася на работу братии» (а не трудились на одного Григория!). Это может означать либо то, что они отрабатывали выплаченную старцем за них «продажу» (штраф), либо, что вероятнее, они добровольно пошли на этот шаг от безысходности, которая изначально и толкнула их на кражу21. В последнем случае дальнейшая работа на монастырь не является прямым юридическим следствием преступления.
В отношении двух эпизодов о краже урожая картина довольно неоднозначна. Воры, которые пытались украсть «зелие» и «плоды» из «малого оградца», остались жить в монастыре, «оградъ предръжаще». Быть может, речь идет именно об огороде Чудотворца22. В любом случае, урожай шел на общий стол: работали они на благо всей «святой братии», и результаты их труда шли «на потребу» всей братии (Патерик, 1911, 97). Если полагать, что трудились они именно на огороде монаха Григория, то это уточняет представления о характере распоряжения и владения инока землей: как минимум, урожай с участка старца предназначался не для личных целей, а для всей братии, как максимум — считать участок «своим» монах мог с большой натяжкой.
Что же до жуликов из рассказа о мошенниках-похитителях яблок, то старец «осуди ихъ в работу Печерьскому монастырю» с тем, чтобы они могли «и инехъ напитати отъ своихъ трудовъ» (Патерик, 1911, 98), т. е. чтобы, буквально, корми ли своим трудом монахов — надо думать, также занимаясь земледелием23 (причем
«с чады своими»). Итак, результаты их труда доставались всей братии, работали они в интересах всего монастыря, а не только инока Григория, где именно в монастыре они работали — неизвестно.
Таким образом, из рассмотрения встреч Григория с ворами и их последствий, можно сделать следующие выводы. С одной стороны, земельным участком занимался и заведовал сам монах, он же единолично решал вопросы, связанные с посягательствами на него извне (он в основном контактировал с попавшимися ворами и только он решал их дальнейшую судьбу), и в этом смысле можно говорить, что это «его» огород и сад.
С другой же стороны, «малый оградец» и «древа плодовита» полностью не обособлялись из структуры монастырского хозяйства: там, вероятно, трудился не один Григорий (как можно предположить из окончания второй истории о ворах), а урожай шел на общий монастырский стол24. Как пишет на этот счет П. И. Гайденко, «иноки могли пользоваться собственными огородами, которые, как видится, служили и частным, и общим (братским) интересам» [Гайденко, 2017а, 87]25.
Включенность участка в систему монастырского хозяйства подтверждает и то, что воров, покусившихся на «зелие» и «древа плодовита», выращиваемые Григорием, ожидала жизнь и работа в «Печерьскомъ монастыре», а не только в «малом оградце» инока. Также нужно отметить, что о продаже Чудотворцем урожая за пределы монастыря и получении от этого каких-то частных доходов, что практиковали некоторые другие монахи за счет своего «рукоделия», ничего не говорится.
Учитывая, что нам ничего не известно о покупке, аренде и других формальных основаниях приобретения участка монахом26 (как и о других подобных случаях), но известно о постепенном, но заметном отходе от традиций общежития после Феодосия Печерского, мы можем заключить, что «малый оградец» и «древа плодовита», по-ви-димому, были явочным порядком заведены самим монахом, без какого-либо юридического оформления. И с течением времени эта земля стала восприниматься как личный участок Григория, чему способствовал и высокий статус старца в обители27.
Единственный схожий пример — «оград» князя-инока Николая Святоши, принявшего монашество в 1106 г. После нескольких лет добросовестного послушничества он «принуженъ бысть» волей игумена и братии завести отдельную келью, при которой «своима рукама» заводит и «оград» (Патерик, 1911, 83). Это также была не покупка и не аренда. Как и в случае с «малым оградцем» монаха Григория, можно утверждать, что участок инока Николая Святоши рассматривался как часть монастырского хозяйства. Так, говоря о монашеском подвиге последнего, Патерик отмечает: «Не вкуси же иного ничтоже, токмо от монастырьскиа яди питашеся» (Патерик, 1911, 83). Надо полагать, урожай из «ограда» при келье также рассматривался как часть общих монастырских продуктов.
Вообще же, можно заключить, что владение самостоятельно возделываемым участком было своеобразной привилегией, связанной с высоким положением насельника в монастырской иерархии — изначальным или приобретенным. Монах Григорий со временем приобретает особый авторитет в монастыре, становится известен как чудотворец, другой упомянутый обладатель «своего» огорода, инок Николай Святоша — тоже далеко не рядовой послушник. Отринув мир, он, конечно, стал лишь одним из иноков, но его экс-княжеский статус никогда не забывался, что хорошо видно из рассказа о нем Патерика. Как указывалось выше, в дальнейшем в киновиях самодеятельное огородничество и разведение плодовых деревьев монахами у своих келий иногда прямо запрещается («Духовная грамота» прп. Иосифа Волоцкого), и именно потому, что жизнь и быт иноков должны быть одинаковы [Романенко, 2002, 275–276]28. К тому же это могло провоцировать и несанкционированный прием пищи вне трапезной или без благословения настоятеля монастыря, что запрещалось общежитийными уставами29.
Как отмечалось выше, скорее всего, «собственный» участок инок Григорий Чудотворец заводит после смерти прп. Феодосия Печерского, когда общежитийные строгости начинают смягчаться30, и когда, по-видимому, инок Григорий приобретает и славу чудотворца, и больший авторитет среди братии31. Во времена игуменства Никона (1078–1088) [Ольшевская, Травников, 1999, 392, 411] он уже известен как «Чюдотворец» (Патерик, 1911, 90–92), а в рассказах Патерика о встречах с ворами он выставляется уже как признанный в этом отношении «специалист». По крайней мере, последняя история о жуликах-похитителях яблок, чей товарищ погиб, отнесена Патериком ко времени после смерти прп. Феодосия (Патерик, 1911, 98). Можно примерно установить время, когда происходили кражи яблок из сада монаха, отталкиваясь от особенностей роста и развития яблонь. Если монах Григорий заводит сад вскоре после смерти прп. Феодосия (1074), то деревья достаточно выросли и начали плодоносить к середине 80-х гг. XI в.: 10–12-летние растения достигают высоты 3–4 м (один из воров погиб, сорвавшись с яблони, — высота дерева должна была быть достаточной), современные сорта яблони плодоносят через 5–7 лет после посадки саженца, дикая яблоня — примерно через 10 лет [Лангенфельд, 1991, 66]. А к середине 80-х гг. инок стал известен как «Чудотворец».
-
Н. С. Васиховская пишет о монахе Григории: «Живя в монастыре, он сохранил при себе ценную библиотеку и привычку к собственному огороду и саду» [Васихов-ская, 2019, 166], подразумевая, как можно понять, что огород он заводит сразу по приходе в обитель. Полагаем, что это не совсем так: привычку к огородничеству и садоводству он сохранил (если таковая имелась до того), но реализовать ее смог не сразу по приходе в монастырь.
Говоря об «оградце» Григория, необходимо отметить, что это первое известное упоминание о монастырском саде в Древней Руси32. До того выращивание плодовых деревьев не было характерно для монастырского хозяйства. В Житии прп. Феодосия Печерского, где говорится о ранних годах существования монастыря, сообщается, что ради пропитания монахи «въ ограде копахоуть зелииинааго ради растения» (Житие Феодосия Печерского, 1997, 376)33. О выращивании плодовых деревьев и разведении садов ничего не сообщается. Сад инока Григория был не вполне обычным явлением не только для структуры монастырского хозяйства как такового, но, вероятно, и с точки зрения собственно ботанической — а именно с позиции того, что именно там культивировал монах.
Разведение садов на Руси XI в. (в Среднем Поднепровье в том числе), судя по дошедшим до нас сведениям, было не очень распространено. Как свидетельствуют археологические и палеоботанические данные, в пищу, прежде всего, шли зерновые, бобовые, овощи, а также дикоросы [Пашкевич, 1991, 2010; Безусъко и др., 2011, 236–318]. Изыскания на территории киевских монастырей домонгольского времени дают такую же картину: лидируют зерновые, гораздо реже встречаются бобовые, овощи [Пашкевич, 2014, 132–139]. Однако в Киеве в слоях XI–XIII вв. обнаружены также семена малины, бузины, косточки вишни, сливы, терна, винограда, они являются «непосредственными свидетельствами употребления в пищу этих растений и подтверждением существования садов и виноградников на территории и в окрестностях города» [Пашкевич, 2010, 480]. Палеоботанические исследования слоев XI–XVIII вв. на территории монастырей Киева обнаружили следы культурных фруктовых и ягодных растений, но это весьма малочисленные находки, и в основном (кроме бузины) они выходят за пределы древнерусского периода [Пашкевич, 2014, 136].
Примерно с XI в., согласно специальным исследованиям, по-видимому, получает распространение на Руси яблоня домашняя34. До того в Среднем Поднепровье произрастал только дикорастущий вид — яблоня лесная35 [Помология, 2005, 48; Лангенфельд, 1991, 116; Пономаренко, 1992, 13], и, возможно, её разновидность — яблоня ранняя36 [Лангенфельд, 1991, 117; Помология, 2005, 49; Савин, Чибилёв и др., 2017, 63]. Плоды дикорастущих видов мелкие и горькие, почти несъедобны, в то время как плоды яблони домашней крупные, с боль шой массой, сладкие, кисло-сладкие.
Последнее во многом и объясняет непонятную настойчивость воров в покушениях на сад инока Григория: ради плодов дикорастущей яблони, которые к тому же легко можно было добыть за пределами монастыря и не вторгаясь в чужие владения, так рисковать смысла не было.
Яблоня домашняя была привозной культурой. На территорию Восточной Европы она попала извне, поскольку яблоня лесная в одомашнивании культурных сортов практического значения не имела [Пономаренко В., Пономаренко К., 2012, 228; Помология, 2005, 53]. Одним из путей проникновения яблони домашней в регион было распространение ее из Греции по Днепру [Помология, 2005, 55; Пономаренко, 2009, 205; Пономаренко В., Пономаренко К., 2012, 228; Пономаренко В., Пономаренко К., 2013, 53–57; Димитриев, 2014, 16–19]. Монах Григорий Чудотворец, вероятнее всего, мог познакомиться с культурой яблони домашней благодаря тесным контактам, которые поддерживал Печерский монастырь с Афоном37.
Если говорить о материальных подтверждениях сообщений Патерика о возможном культивировании яблони домашней (археологических, палеоботанических), то они крайне скудны. Потенциальное обнаружение следов небольшого сада-огорода монаха Григория представляется крайне маловероятным: они, конечно, исчезли в результате дальнейшей строительно-хозяйственной деятельности монастыря38.
Ботанические и генетические исследования о распространении яблони домашней, на которые мы ссылались выше, не позволяют делать точных хронологических привязок к тем или иным территориям. Данные же, полученные археологическим путем, не содержат информации о культивировании яблони39 в Среднем Поднепровье в это время, как и в течение всего древнерусского периода в целом40. Тем не менее, в результате археологических исследований 1998–1999 гг. на территории Михайловского Златоверхого собора и на прилегающих к нему областях в центральной холмистой части Киева в слоях конца XI–XII вв. была обнаружена пыльца яблони (Malus sp.41), а также, по мнению исследователей, пыльца яблони домашней (Malus domestica Borkh) [Безусъко и др., 2001, 390; Bezusko, et al., 2003, 108, 115, 119; Безусъко и др., 2011, 300, 305, 312]42.
Такая картина — единичное обнаружение, предположительно, следов культивирования Malus domestica Borkh — подтверждает вышесказанное: во второй половине XI в. яблоня домашняя, вероятно, только начинала распространяться в Среднем По-днепровье и являлась для местных жителей редким и экзотическим видом плодового дерева.
Отметим также, что яблоки совершенно не упоминаются в известиях о рационе монахов. Вместе с тем эта сторона монашеской жизни домонгольского времени довольно подробно изучена [Гайденко и др., 2013, 68–79; Харин, 2015, 171–175; Гайденко, 2016; Васиховская, 2019, 116–117]. Ни устав Алексея Студита, ни Житие прп. Феодосия Печерского, ни Киево-Печерский патерик, ни другие источники не содержат прямых указаний, что плоды яблони домашней или яблони лесной, свежие или специально приготовленные, присутствовали на монастырском столе. Хотя, можно думать, инок Григорий Чудотворец выращивал «плоды» и «зелие» для употребления в пищу. Вероятно, это объясняется тем, что на Руси плоды яблони лесной — основной вид яблони, произраставший в то время, — самостоятельно не употреблялись в пищу, почему и не привлекли специального внимания, а яблоня домашняя если и встречалась, то крайне редко. В Византии же разнообразие плодовых деревьев, по сравнению с более северным регионом, отодвинуло яблоню на второй план, почему о ней нет упоминания, например, в имевшем распространение на Руси уставе Алексея Студита43.
Выводы
«Малый оградец» монаха Григория Чудотворца — это небольшой земельный участок с огородом и садом в монастыре возле келии монаха. Владение «своим» земельным участком было нарушением Студийского устава, который был введен прп. Феодосием Печерским. Но соблюдение устава, как и традиции общежития в целом, стали ослабевать после его смерти. Огород и сад были явочным порядком заведены самим иноком Григорием, без какого-либо юридического оформления, и со временем стали восприниматься как личный участок монаха. Владение самостоятельно возделываемым участком было своеобразной неформальной привилегией, связанной с высоким положением инока в монастырской иерархии.
Земельным участком занимался и заведовал сам монах, он же единолично решал вопросы, связанные с посягательствами на него извне, от него зависела судьба попавшихся воров, и в этом смысле можно говорить, что это «его» огород и сад. Однако «малый оградец» полностью не обособлялся из структуры монастырского хозяйства: там, вероятно, трудился не один инок Григорий и урожай шел на общий стол, а пойманных на участке воров ожидала работа в интересах всего монастыря.
Участок монаха Григория примечателен тем, он включал в себя сад. И это первое известное упоминание о монастырском саде в Древней Руси. До того выращивание плодовых деревьев не было характерно для монастырского хозяйства. Также там, вероятно, выращивалась яблоня домашняя, завезенное из Византии и редкое для Руси того времени растение (в отличие от дикорастущих видов), чьи плоды по тем временам были необычны и особенно привлекательны как внешне, так и с гастрономической точки зрения.
Список литературы Воры и "малый оградец" Григория Чудотворца: земельная "собственность" в структуре русской киновии и особенности хозяйственной деятельности Киево-Печерского монастыря в последней трети XI века
- Акты (1873) — Акты русского на святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеимона. Киев: Тип. Киевопечерск. Успенск. лавры, 1873. XXIV, 616 с.
- Древнерусские княжеские уставы (1976) — Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. М.: Наука, 1976. 240 с.
- Духовная грамота (1868) — Духовная грамота преподобного Иосифа Волоцкого // Великие Минеи Четии. Сентябрь. Дни 1-13. СПб., 1868. Стб. 499-615.
- Житие Саввы Освященного (1901) — Житие Саввы Освященного // Великие Минеи Четии, собранные Всероссийским митрополитом Макарием. Вып. 10: Декабрь, дни 1-5. СПб.: Синодальная типография, 1901. Стб. 444-551.
- Житие Феодосия Печерского (1997) — Житие Феодосия Печерского // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 1997. Т. 1: XI — середина XII века. С. 352-434.
- 43 Между тем в главах о трапезе и распределении пищи упомянуты сливы, смоквы (оливки, маслины), виноград, орехи (Типикон патриарха Алексия, 2001, 368-380).
- Иосифа игумена Духовная Грамота (2001) — Иосифа игумена, иже на Волоце Ламском. Духовная Грамота Преподобнаго Игумена Иосифа // Древнерусские иноческие уставы. М.: Северный паломник, 2001. С. 57-157.
- Краткая редакция Устава (2001) — Краткая редакция Устава прп. Иосифа Волоцко-го // Древнерусские иноческие уставы. М.: Северный паломник, 2001. С. 187-215.
- Монастырский устав (1959) — Монастырский устав // Послания Иосифа Волоцко-го / Подг. текста А. А. Зимина и Я. С. Лурье. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1959. С. 296-319.
- Патерик (1911) — Патерик Киевского Печерского монастыря. СПб.: Типография М.А. Александрова, 1911. II, 275, [4] с.
- Типикон патриарха Алексия (2001) — Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М.: Изд-во Моск. патриархии, 2001. 428 с.
- Actes de l'Athos (1906) — Византийский временник. 1906. Приложение к XII тому. № 1. Actes de l'Athos. III. Actes d'Esphigménou, publiés par le R. P. Louis Petit et W. Regel. 156 с.
- Leben des Sabas (1939) — Leben des Sabas // Schwartz E. Kyrillos von Skythopolis. Lepzig, 1939. S. 85-201.
- Абрамович (1902) — Абрамович Д.И. Исследование о Киево-Печерском патерике как историко-литературном памятнике. СПб.: Отделение русского языка и словесности Имп. АН, 1902. [2], III, XXIX, 213 с.
- Артамонов (2013) — Артамонов А. Ю. «Гипотеза, выстроенная на гипотезах»: по поводу нового исследования А. Поппэ // Вестник церковной истории. 2013. № 1-2. С. 361-387.
- Бахрушин (1937) — Бахрушин С. В. К вопросу о крещении Киевской Руси // Историк-марксист. 1937. № 2. С. 40-77.
- Башлыкова (2019) — Башлыкова М.Е. Топика чудес в Киево-печерском патерике (на материале церковнославянских и польскоязычной редакций) // Литература Древней Руси. Материалы X Всероссийской конференции «Древнерусская литература и ее традиции в литературе Нового времени». М.: Московский педагогический государственный университет, 2019. С. 138-159.
- Безусъко и др. (2001) — Безусъко Т.В., Томашевський Ю.П., ¡вакш Г.Ю. Новi даш про флору та рослиншсть стародавнього Киева (за матерiалами палшолопчних дослщ-жень) // Науковi записки НаУКМА. 2001. Т. 19. Ч. 2. С. 389-391.
- Безусъко и др. (2011) — БезуськоЛ.Г., Мосякт С.Л., Безусько А.Г. Закономiрностi та тенденцп розвитку рослинного покриву Украши у тзньому плейстоцеш та голоцеш. К.: Альтерпрес, 2011. 448 с.
- Бълхова (2000) — Бълхова М.И. О монастырском уставе в Древней Руси: Середина XI — середина XIV в. // Церковь в истории России. Сб. 4. М., 2000. С. 47-54.
- Бълхова (2002) — Бълхова М. И. Монастыри на Руси XI — середины XIV века // Монашество и монастыри в России XI-XX века: Исторические очерки. М.: Наука, 2002. 346 с. С. 25-56.
- Васиховская (2019) — Васиховская Н. С. Киево-Печерский монастырь во второй половине XI — первой половине XIII века. 2019. 196 с.
- Гайденко и др. (2013) — Гайденко П.И., Москалёва Л.А., Фомина Т.Ю. Церковь домонгольской Руси: иерархия, служение, нравы. М.: Университетская книга, 2013. 150 с.
- Гайденко (2015) — Гайденко П. И. Несколько замечаний о социальных аспектах древнерусского монашества XI — первой половины XIII вв. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2015. Вып. 4(12). С. 48-78.
- Гайденко (2016) — Гайденко П.И. Монастырские пиры, трапезы (несколько набросков к жизни древнерусского монашества XI-XIII вв.) // Христианское чтение. 2016. №6. С. 371-392.
- Гайденко (2017а) — Гайденко П.И. К вопросу об источниках содержания древнерусского монашества кон. X — первой трети XIII вв. // Палеоросия. Древняя Русь во времени, в личностях, в идеях. 2017. Вып. 7. С. 74-92.
- Гайденко (2017b) — Гайденко П.И. Можно ли спастись в роскоши? (о быте и пределах аскетических опытов древнерусского монаха XI-XIII вв.) // Палеоросия. Древняя Русь во времени, в личностях, в идеях. 2017. Вып. 8. С. 7-17.
- Голубинский (1904) — Голубинский Е.Е. История русской церкви. М.: Университетская типография, 1904. Т. 1. 2-я пол. 2, 926, XVII с.
- Греков (1953) — Греков Б.Д. Киевская Русь. М.: Госполитиздат, 1953. 568 с.
- Димитриев (2014) — Димитриев А.В. Материалы к истории садоводства в Среднем Поволжье // Научные труды Чебоксарского филиала Главного ботанического сада РАН. 2014. Вып. 7. С. 16-19.
- Зимин, Лурье (1959) — Зимин А.А., Лурье Я.С. Археографический обзор // Послания Иосифа Волоцкого / Подг. текста А. А. Зимина и Я. С. Лурье. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1959. С. 98-139.
- Каждан (1971) — КажданА.П. Византийский монастырь XI-XII вв. как социальная группа // Византийский временник. М., 1971. Т. 31. С. 48-70.
- Кириллин (2009) — Кириллин В.М. «Отвещание любозазорным» преподобного Иосифа Волоцкого: размышление в лицах об иноческом подвиге как авторская самохарактеристика // Русская патрология. Материалы академической конференции. Сергиев Посад: Московская Православная Духовная Академия, 2009. С. 180-207.
- Ключевский (1987) — Ключевский В. О. Сочинения: в 9 т. М.: Мысль, 1987. Т. 1. 430, [1] с.
- Лангенфельд (1991) — Лангенфельд В. Т. Яблоня. Морфологическая эволюция, филогения, география, систематика. Рига, 1991: Зинатне. 224 с.
- Лурье (1988) — Лурье Я. С. Иосиф Волоцкий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2: Вторая половина XIV-XVI в. Ч.1: А-К. Л.: Наука, 1988. 516 с. С. 434-439.
- Ольшевская, Травников (1999) — ОльшевскаяЛ. А., Травников С.Н.. Комментарии // Древнерусские патерики. М., 1999. С. 386-456.
- Пашкевич (1991) — Пашкевич Г. А. Палеоэтноботанические находки на территории Украины. Древняя Русь. Каталог. К.: Б. и., 1991. 45 с.
- Пашкевич (2010) — Пашкевич Г.О. Палеоетноботашчт дослщження давньоруського часу та середньовiччя на територп Украши // Археолопя i давня iсторiя Украши: Зб. наук. пр. К.: 1А НАН Украши, 2010. Вип. 1. С. 477-483.
- Пашкевич (2014) — Пашкевич Г. О. Палеоботашчш знахщки на територш монастирив Украини // Мкта Давньой Русь К.: «Стародавнш свгг», 2014. С. 132-139.
- Петраускас (2006) — Петраускас А.В. Ремесла та промисли сшьського населення Се-реднього Подншров'я в 1Х-Х111 ст. К.: КНТ, 2006. 200 с.
- Помология (2005) — Помология. Т.1: Яблоня / Под ред. Е.Н. Седова. Орел: Изд-во ВНИИСПК, 2005. 576 с.
- Пономаренко (1992) — Пономаренко В. В. Дикорастущие виды рода Malus Mill Европы, Кавказа, Сибири и Средней Азии (биология, систематика, исходный материал для селекции). Автореф. дис. ... докт. биол. наук. СПб., 1992. 38 с.
- Пономаренко (2009) — Пономаренко В.В. Современные представления о первичном центре доместикации и вторичных центрах генетического разнообразия яблони домашней — Malus domestica Borkh // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. СПб., 2009. Т. 166. С. 202-208.
- Пономаренко В., Пономаренко К. (2012) — Пономаренко В.В., Пономаренко К. В. Идеи Н. И. Вавилова в современных исследованиях рода Malus Mill. — яблоня // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. СПб., 2012. Т. 169. С. 225-228;
- Пономаренко В., Пономаренко К. (2013) — Пономаренко В. В., Пономаренко К. В. Генофонд сортов яблони народной селекции — национальное достояние России // Научные труды ГНУ СКЗНИИСиВ. 2013. Т. 1. С. 53-57.
- Поппэ (2011) — Поппэ А. Студиты на Руси. Истоки и начальная история Киево-Печерского монастыря. К.: 1нститут кторп Украши НАН Украши, 2011. 150 с.
- Приселков (2003) — Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X-XII вв. СПб.: Санкт-Петербургская издательско-книготорговая фирма «Наука», 2003. 245 с.
- Регель 1896 — Регель А. Изящное садоводство и художественные сады: Историко-дидактический очерк. СПб.: Издание Г. Б. Винклер, 1896. XI, 229 с.
- Пузанов (2007) — Пузанов В. В. Социокультурные конструкты и образы повседневности в «Житии Феодосия» // Вестник Удмуртского университета. 3. История. 2007. № 7. С. 3-28.
- Романенко (2002) — Романенко Е. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря. М.: Молодая гвардия, 2002. 327, [2] с.
- Романов (2002) — Романов Б.А. Люди и нравы древней Руси. Историко-бытовые очерки XI-XIII вв. М.: Территория, 2002. 256 с.
- Савин и др. (2017) — Савин Е.З., Чибилёв A.A., Березина Т.В., Кузьмин H.H., Логинчив Е. К. Яблоня лесная в лесостепных и степных ландшафтах Заволжско-Уральского региона // Известия Оренбургского Государственного аграрного университета. 2017. № 2 (64). С. 63-65.
- СлДрЯ XI-XIV вв. (1991) — Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.): в 10 т. М.: Русский язык, 1991. Т. 4. 559 с.
- СлРЯ XI-XVII вв. (1978) — Словарь русского языка XI-XVII вв. М.: Наука, 1978. Вып. 5. 392 с.
- СлРЯ XI-XVII вв. (1979) — Словарь русского языка XI-XVII вв. М.: Наука, 1979. Вып. 6. 360 с.
- Смолич (1997) — Смолич И. К. Русское монашество 988-1917 гг. Жизнь и учение старцев. М.: Православная энциклопедия, 1997. 606, 1 с.
- Срезневский (1893) — Срезневский И. И. Материалы для словаря древне-русского языка. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1893. Т. 1. IX с., 1420 стб, 49 с.
- Старославянский словарь (1994) — Старославянский словарь (по рукописям X-XI вв.) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М.: Русский язык, 1994. 842 с.
- Творогов (2008) — Творогов О. В. Переводные жития святых в древнерусской книжности XI-XV вв. // Труды Отдела древнерусской литературы. 2008. Т. 59. С. 115-132.
- Федотов (2000) — Федотов Г. П. Собрание сочинений в 12 т. Т. 8: Святые Древней Руси М.: Мартис, 2000. 268 с.
- Фроянов (2001) — ФрояновИ.Я. Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории // Фроянов И.Я. Начала Русской истории. Избранное. М.: Издат. дом «Парад», 2001. С. 331-482.
- Харин (2015) — Харин Е.С. Быт и нравы древнерусского монашества XI-XIII вв. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2015. 245 с.
- Чебаненко (2017) — Чебаненко С.Б. Кровная месть или смертная казнь: об одном известии о Григории Чудотворце (последняя треть 11 века) // Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2017. Вып. 8. С. 81-97.
- Черный (2010) — Черный В.Д. Русские средневековые сады. Опыт классификации. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2010. 174 с.
- Щапов (1989) — Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси, X-XIII вв. М.: Наука, 1989. 232 с.
- Щапов (2002) — Щапов Я.Н. Монашество на Руси в XI-XIII веках // Монашество и монастыри в России XI-XX века: Исторические очерки. М.: Наука, 2002. С. 13-24.
- Bezusko et al. (2003) — Bezusko L. G., Bezusko T. V., Mosyakin S. L. A Reconstruction of the Flora and Vegetation in the Central Area of Early Medieval Kiev, Ukraine, Based on the Results of Palynological Investigations // Urban Habitats. 2003. Vol. 1. No. 1. P. 105-119.