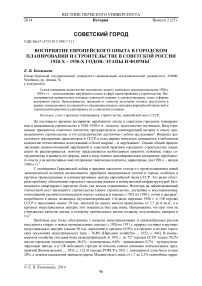Восприятие европейского опыта в городском планировании и строительстве в советской России 1920-х - 1930-х годов: этапы и формы
Автор: Конышева Е.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Советский город
Статья в выпуске: 2 (25), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена недостаточно изученному аспекту советского градостроительства 1920-х - 1930-х гг. - использованию зарубежного опыта в сфере проектирования и строительства. Рассматриваются приоритетные интересы советской стороны и соответствующие этапы и формы восприятия опыта. Прослеживается эволюция от попыток получения готовых результатов в рамках концессионных соглашений до стремления овладеть методами европейской проектной и строительной практики и адаптировать их к советским условиям.
Городское планирование, строительство, европейский опыт, ссср
Короткий адрес: https://sciup.org/147203555
IDR: 147203555 | УДК: 94(47+57)"
Текст научной статьи Восприятие европейского опыта в городском планировании и строительстве в советской России 1920-х - 1930-х годов: этапы и формы
До настоящего времени восприятие зарубежного опыта в советском городском планировании и гражданском строительстве в 1920–1930-е гг. остается недостаточно изученным. Индустриальные приоритеты советских пятилеток предопределили доминирующий интерес к опыту промышленного строительства, и это сотрудничество достаточно глубоко исследовано1. Вопросы деятельности иностранных архитекторов в СССР в годы первых пятилеток освещаются в небольшом количестве отечественных исследований и более широко – в зарубежных2. Однако общий процесс эволюции взаимоотношений зарубежной и советской практики городского строительства специально не рассматривается, поэтому представляется необходимым наметить основные этапы сотрудничества и выявить его формы, имея в виду именно целенаправленное восприятие зарубежного опыта, а не интенсивные многосторонние творческие контакты, характерные для 1920-х – начала 1930-х гг.3
С окончанием Гражданской войны и времени массового голода и с провозглашением новой экономической политики интенсивность приобрели миграционные потоки в города, особенно в крупные промышленные и административные центры европейской части СССР. Это резко обострило проблему обеспечения городского населения жильем и коммунальной инфраструктурой. Возможности «квартирного передела» были уже весьма ограниченны. Несмотря на зафиксированный статистикой рост жилищного строительства (новое строительство, достройка и восстановление), позволивший увеличить возведенную жилую площадь в городах с 1923 по 1930 г. почти в два раза4, потребности в жилье оставались неудовлетворенными. Согласно переписи 1926 г. в 158 городах СССР с населением свыше 20 тыс. жителей на одного жителя приходилось от 3,7 до 6 кв.м5, а в крупных индустриальных центрах этот показатель был еще ниже. Немаловажно, что при этом не учитывалось качество жилья, к которому причислялись жилые подвалы, полуподвалы, каморки и 6 т.п.
Проблема еще более обострились с началом индустриализации и скачкообразным ростом населения в старых и новых промышленных городах: с 1926 по 1931 г. прирост составил в крупных индустриальных центрах (свыше 50 тыс. населения) в среднем 45,9%, а в средних и мелких городских поселениях индустриального типа – 76,8% [Народное хозяйство…, 1932, с. 404]. В коммунальном хозяйстве ситуация была катастрофической. К 1931 г. из 727 городов СССР только 70,2% имели городские электростанции, 46,5% – водопроводы, 6,6% – канализацию, 0,7% – мусороутилизирующие заводы, а в 128 небольших городах не имелось совсем основных коммунальных предприятий [Коммунальное…, 1933, с. 12]. В городах РСФСР к 1931 г. замощенных улиц было только 20%, а зеленые насаждения занимали (кроме Москвы) всего лишь от 1,7 до 2,5% селитебных терри-
торий [Коммунальное…, 1933, с. 33, 37].
Новые идеи организации города, рабочего поселка и жилища, обсуждаемые в дискуссиях и конкурсах на протяжении 1920-х гг. и воплощаемые в «экспериментальных» объектах, оказывались мало связанными с массовой проектно-строительной практикой7. Положение осложнялось и ситуацией с организацией проектного дела: структура проектных организаций СССР не могла в силу огромных масштабов и исключительной новизны задач оперативно обеспечить комплексную разработку проектно-технической документации [Казусь, 2009, с. 105].
Однако наиболее проблемной была в 1920-е гг. работа советской строительной отрасли. Так, средняя стоимость кубической сажени строений в СССР на 1926–1927 гг. была ориентировочно определена Госпланом СССР в 190–200 руб., в реальности для крупных городских центров она могла составить 280–300 руб. Себестоимость же аналогичного строительства в Германии составляла 120 руб., Англии – 100–110, Франции 120–130, США – 1808. Если не учитывать при рассчете среднего показателя каменные строения, то стоимость 1 куб. м в 1927–1928 гг. в СССР составляла от 18 до 23 руб. При этом предполагалось снижение ее в 1932–1933 гг. до 12–15 руб. А стоимость 1 кв.м определялась в 80–100 руб., в то время как, например, в Германии – 65–80 руб.9 Такая разница объяснялась прежде всего дороговизной строительных материалов, производимых в СССР. В 1925 г. стоимость кирпича была в 2,5 раза выше, чем в Германии, цемента и извести – в 2 раза и даже русский лес продавался дороже, чем в Европе10. Причинами столь высокой стоимости были не только острый дефицит предприятий стройматериалов, но и примитивная техника производства, малоэффективная организация производственного процесса и логистики. Плохое качество и высокая стоимость строительных материалов, устаревшие технологии строительства, недостаток в силу разных причин квалифицированных строительных рабочих, техников, инженеров, нерациональная организация и отсутствие механизации труда на площадке приводили к тому, что строительство дома в СССР было дороже, чем, например, в Германии, в среднем на 35%, и это при том, что стоимость рабочей силы была ниже.
В подобной ситуации и в условиях расширения внешнеэкономического сотрудничества СССР в 1920-е гг. неудивителен интерес к привлечению западного опыта в сферу гражданского проектирования и строительства. В этой области можно выделить несколько этапов с соответствующими задачами, приоритетами и основными формами взаимодействия.
На первом этапе зарубежных партнеров рассматривали как инвесторов и застройщиков в сфере жилищного и коммунального строительства, и их деятельность должна была осуществляться прежде всего в рамках концессионных соглашений. Концессионная деятельность в указанной сфере началась в 1923 г. с проведения в основном целенаправленной концессионной политики и образованием Главного концессионного комитета при СНК РСФСР, в 1924 г. преобразованного в Главный концессионный комитет при СНК СССР [Концессии…, 2006, с. 691]. Однако жилищное и коммунальное строительство оказалось вне насущных приоритетов советской власти. В апреле 1923 г. было принято лишь общее постановление ВЦИК и СНК РСФСР о допущении концессий на коммунальные предприятия, и до 1926 г. Госплан не учитывал концессий в области коммунального хозяйства [Концессии…, 2006, с. 688].
Инициатива внедрения концессий в гражданское строительство принадлежала органам городского коммунального управления и касалась коммунального благоустройства и жилищного строительства12. Эта инициатива исходила прежде всего от коммунальных органов Москвы, переживавшей наиболее острый жилищный кризис13. Еще в 1923 г. Московский отдел коммунального хозяйства предлагал передать иностранным концессионерам под застройку и благоустройство поселки Останкино и Катуар с населением соответственно 29 и 15 тыс.14. Для иностранных концессий предлагались также значительные незастроенные участки на территории Москвы, не только на периферии, но и в центре города15. Важно то, что на пригородных и городских территориях предполагалось возвести целые благоустроенные поселки или жилые кварталы. При этом проекты планировки поселка, его благоустройства и типов жилых домов подлежали утверждению Московского совета. Проведение водопровода, канализации, электричества и газа, трамвая и т.п. рассматривалось как благоустройство поселка и не должно было составлять предмета отдельных концессий. Моссовет поощрял к строительству каменных домов, предоставляя концессионную аренду под них на 49 лет, в то время как для деревянной застройки – не более 2016.
С 1926 г. привлечение строительных концессий обрело правительственную поддержку, и, несомненно, главной причиной этого стало провозглашение курса на индустриализацию. Двадцать пятого мая 1926 г. было принято Постановление СНК СССР «О льготных условиях допущения иностранного капитала к производству строительных работ на территории СССР»17. Концессионный комитет определил формы привлечения иностранного капитала: концессии на право строительных работ; концессии на постройку и эксплуатацию жилых домов; организация смешанных обществ для производства строительных работ; техническое содействие в деле строительства; производство работ по конкретным подрядам18.
Предполагалось привлечь иностранный капитал прежде всего к крупному жилстроительству. В свете решения предстоящих крупномасштабных задач отмечалось, что «ведение организации массовой постройки жилищ иностранными техническими силами обойдется нам довольно дорого, однако ожидаемые результаты должны полностью оправдать затраты валюты»19. И если еще в 1928 г. целесообразным признавалось привлечение иностранных строительных и эксплуатационных концессий в жилстроительство только в крупных городах СССР (Москве, Харькове, Баку, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде)20, то в 1929 г. – уже в целых регионах: в Центральном промышленном округе и на Урале21, обладавших наиболее мощным индустриальным потенциалом.
Однако концессионный курс в гражданском строительстве фактически не дал ощутимых результатов. Так, за 1922–1927 гг. в Концессионный комитет поступило 2211 предложений [ Бутков-ский , 1928, с. 40]. Но в строительной промышленности за это время было заключено только три договора – два в 1925 г. и один в 1926 г. И эти три договора составили 23% от поступивших предложений, т.е. таких предложений было только 13 [ Бутковский , 1928, с. 43].
Предложения строительной концессии исходили в основном от германских фирм, как и более трети (35,3%) всех концессионных предложений, Именно с Германией было заключено большинство концессионных договоров – 46 из 163 [Бутковский, 1928, с. 41]. В сфере гражданского строительства это было связано не только с общей причиной такой активности Германии в СССР – заключением Раппальского договора в 1922 г. и интенсивным развитием экономических связей двух государств, находившихся в относительной политической изоляции. Германия периода Веймарской республики, преодолевая последствия военной разрухи и кризиса, демонстрировала потрясающие успехи в решении жилищного вопроса, в том числе в области создания материалов, технологий и организации строительства. Но реальное привлечение иностранных капиталов в советское строительство, как показывают цифры, оказалось почти невозможным. Причины этого заключались, с одной стороны, в высоких требованиях Концессионного комитета к размерам инвестиционного капитала22, с другой – в малой прибыльности вложений в строительные концессии для иностранных инвесторов, если учитывать еще юридические ограничения на сроки застройки, права аренды, отчуждения, наследования и т.д.
Советская сторона достаточно быстро осознала, что концессии на постройку и эксплуатацию жилых домов не смогут сыграть значительной роли в решении наиболее острого – жилищного и коммунального – вопроса, так как для концессионеров выгодным оказывалось только строительство высокодоходных домов, а массовое строительство не представляло интереса23. Неудивительно, что случаи подобных концессий единичны, как, например, соглашение между Моссоветом и американской «Лонгэйкр Инжиниринг компани», специализировавшейся в США на строительстве многоэтажных домов, отелей, торгово-промышленных зданий24.
Целесообразными были признаны другие формы концессий и инвестиций: предоставление иностранными строительными фирмами кредитов городским советам на рабочее жилстроительство при условии проведения этими фирмами строительных работ (редким примером стало соглашение Моссовета с германской фирмой «Альбауленц» (Allgemeine Baugesellschaft Lenz and Company) в 1929 г.25); организация смешанных обществ для производства строительных работ; концессии по предоставлению технической консультации в области жилищного строительства и создания новых строительных материалов и их пропаганды путем опытного строительства; образование строительных контор с участием иностранного капитала26. Все эти формы позволяли в процессе проектирования и строительства непосредственно перенимать зарубежный опыт, а не потреблять готовые результаты.
На начальном этапе строительному концессионеру предоставлялось право беспошлинного ввоза из-за границы машин, инструментов, строительных материалов, недостающих в СССР, а также право восстанавливать бездействующие и сооружать новые заводы строительных материа- лов и для снабжения собственных построек, и для сбыта на внутреннем рынке. Все это было закреплено затем в упомянутом Постановлении СНК 1926 г. Возлагалась надежда на то, что «при высоких достижениях иностранной техники в строительном деле и при праве иностранного концессионера ввоза из-за границы части квалифицированной рабочей силы возможно перенесение в СССР заграничных методов строительства, т.е. рационализации производства строительных работ, подбора материалов, рационализации и стандартизации типов домов и т.п., что отразится на стоимости строительства и рентабельности жилищного строительства»27. Особый расчет был на применение заграничной практики в сфере опытного строительства и производства концессионерами новых стройматериалов28.
Первый опыт начала 1920-х гг. в организации смешанных акционерных обществ с участием американского капитала и инженеров в области гражданского строительства («Американско-русский строитель (АРС)», 1922, «Американско-русский конструктор (АРК)», 1923 [ Казусь , 2009, с. 207]) получил развитие в получении концессии германской фирмой «П. Коссель и компания» и создании в 1926 г. АО «Руссгерстрой»29. На общество возлагалось производство на подрядных началах строительных работ по сооружению и оборудованию рабочих и других жилищ, фабричнозаводских зданий и прочих строений, в том числе гостиниц, торговых и конторских помещений и т.п. Основной интерес для советской стороны представлял как материал немецкой фирмы – пористый бетон с низкой теплопроводностью, так и индустриализация строительства – наливной способ по стандартизированной опалубке. По расчетам строительство 1 куб. м здания со стенами «Коссель» при полной механизации работ обходилось в 20 руб., в то время как здания из кирпича – в 20–35 руб., из шлакобетона – 27–28 руб. и даже из дерева – в 24–25 руб.30 Нужно учесть, что договоры об организации совместных предприятий предполагали последующий переход в собственность советской стороны ввезенного оборудования и прав на использование новых материалов и технологий. Так, при досрочном расторжении в 1929 г. договора с компанией «Лонгэйкр» все оборудование было безвозмездно передано в собственность Моссовета31. При исключении в 1928 г. фирмы «П. Коссель и компания» из числа акционеров «Руссгерстрой» патент на рецептуру теплого бетона и конструкции опалубки для него был передан в комитет по делам изобретений ВСНХ32, а в 1929 г. на базе «Руссгерстроя» и на основе использования немецкого патента был образован государственный трест «Теплобетон» [Казусь, 2009, с. 297].
Названные примеры были редки, и концессионная политика в сфере гражданского строительства не позволяла решать задачи реформирования строительной отрасли, внедрения новых технологий и материалов и развития массового жилищного строительства. Впрочем, к концу 1920х гг. наступило разочарование и в концессионной политике и началось ее свертывание [Индустриализация, 1999, с. 209–210]. За это время был определен более перспективный путь – самостоятельное овладение западными знаниями и технологиями и их адаптация к советским условиям.
Начало этапа целенаправленного и систематического изучения зарубежного опыта в сфере строительства и городского планирования на фоне затухающих концессионных надежд можно датировать 1925 г., когда появляется постановление Политбюро ЦК РКП (б) «О привлечении иностранных техников и обучении наших техников за границей» [Индустриализация…, 1999]. Основное внимание было уделено германскому опыту, о котором говорили с восторгом и преклонением, отдавая ему роль «верховной школы и основного консультанта…, alma mater нашего строитель-ства»33. Центром международных деловых контактов стали торгпредства СССР в европейских столицах, прежде всего в Берлине.
Первоначально здесь, как и в Париже и Лондоне, в 1925 г. была образована Берлинская концессионная комиссия [Концессии…, 2006, с. 686], а в 1926 г. по инициативе Центрального бюро инженерно-технической секции при ЦК Союза строительных рабочих (ЦБ ИТС ВССР) создано отделение бюро по заграничным экскурсиям. Главной задачей отделений бюро в Москве и Берлине была систематическая организация экскурсий инженеров и техников в Европу для изучения заграничного опыта. Московское отделение занималось разработкой программ, отбором участников, снабжением необходимой литературой, предварительными лекциями. Немецкая сторона – организацией экскурсий и лекций34. Экскурсии для городских планировщиков, инженеров-строителей, техников предполагались регулярными: ВСНХ СССР постановил «признать целесообразной предложенную Союзом строителей организацию краткосрочных групповых командировок (экскурсий), проводимых по особому, предварительно установленному общему плану…» Строительный коми- тет ВСНХ составил «программу важнейших вопросов промышленного и связанного с ним жилищного строительства, подлежащих выяснению участниками экскурсии», и программу осмотра соответствующих объектов [Современное строительство, 1929, с. 8]. Таким образом, в 1926–1927 гг. обозначился интерес еще одного заказчика городского строительства – наряду с местными городскими советами появляется целенаправленный интерес государства в лице ВСНХ, который станет с этого времени доминирующим. Характерен «набор» организаций, чьи представители отправились в 1927 г. на первую экскурсию: Строительный директорат ВСНХ РСФСР, Стройконвенция, Мос-строй, Госпромстрой, Главэлектро и другие промышленные ведомства и организации. Стоит отметить присутствие среди них представителей Госпромстроя и Стройконвенции, объединявших крупные промышленные тресты и проектно-строительные конторы, обеспечивая тем самым максимальных охват организаций информацией о зарубежном опыте.
Представленные организации, несмотря на их промышленный профиль, объединяли как индустриальное, так и гражданское проектирование. Согласно «Положению о порядке утверждения проектов по промышленному строительству, производимому ВСНХ СССР, высшими советами народного хозяйства союзных республик, их местными органами и подведомственными им предприятиями и учреждениями», изданному ЦИК и СНК СССР 23 ноября 1927 г., жилищное строительство и возведение объектов коммунального и бытового обслуживания в рабочих поселках было переведено в разновидность «промышленного строительства»35. Неразрывная связь промышленного и гражданского проектирования обусловила и двоякий интерес экскурсантов – ознакомление «с постановкой и достижениями в области промышленного и связанного с ним жилищного строительства».
Перечень основных приоритетов в планировании экскурсии утверждался на уровне заместителя председателя ВСНХ СССР. Спектр вопросов всеобъемлющ: градостроительное планирование (планировка и благоустройство поселков); жилище (особенности проектирования жилых многоквартирных домов, нормы общей и жилой площади, благоустройство, конструкции и материалы, архитектурное решение); строительство (строительные материалы и конструкции, механизация работ и стандартизация проектирования и строительства); организация и методы производства работ (управляющий аппарат и исполнительные аппараты на стройке, организация отдельных видов работ, в том числе транспортировки, методы проектирования, комплектование стройки рабочей силой и т.п.); стоимость строительства (материалы, рабочая сила, организация работ, накладные расходы); социально-профессиональные аспекты (подготовка и общие условия работы инженернотехнического персонала и рабочих, профессиональные и профсоюзные организации, научнотехническое обеспечение проектирования и строительства); финансирование строительства; архитектурные течения в Германии [Современное строительство, 1929, с. 206–212].
Все предложенные вопросы экскурсанты подробнейшим образом рассмотрели на многочисленных примерах. Анализируя градостроительство и жилищное строительство, советская делегация посетила Штутгартскую выставку «Жилище» с экспериментальной жилой застройкой и изучила рабочие поселки: Бритц (Берлин, арх. Б. Таут), Тёртен (Дессау, арх. В.Гропиус), Праунхейм, Брухфельдштрассе и др. (Франкфурт-на-Майне, арх. Э. Май) и др. По результатам экскурсии был опубликован отчет, переизданный в 1929 г. [Современное строительство, 1929]. В 1927 г. Германию была организована экскурсия для студентов старших курсов архитектурных и строительных факультетов36. В дальнейшем Германию неоднократно посещали советские архитекторы и строительные чиновники, а профессиональная пресса 1926 – 1930 гг. регулярно публиковала статьи, заметки, аналитические отчеты о германском строительстве. В журналах «Строительная промышленность», «Коммунальное хозяйство», «Вопросы коммунального хозяйства» и других о зарубежном опыте было напечатано за этот период не менее 85 статей. Советские делегации или отдельные лица посещали строительные выставки в Дрездене (1926), Лейпциге (1926), Штутгарте (1927), международные конгрессы по жилищному строительству в Мюнхене и Париже (1928), Риме и Франкфурте-на-Майне (1929). В советских профессиональных журналах помещалась информация о европейской строительной периодике и книгах. Советское государство не скупилось на валютные расходы для командировок: по отношению к 1925/1926 гг. валютные затраты на эти цели возросли в 1926/1927 гг. на 27,5%, в 1927/1928 гг. – на 49,2%, в 1928/1929 гг. было намечено увеличение их на 90%, и только в этом году было запланировано 140 строительных командировок37.
Изучение опыта не ограничивалось поездками за границу, не менее важной была организа- ция обмена опытом с зарубежными специалистами в СССР. В этом процессе важную роль сыграло русско-германское общество «Культура и техника», образованное в 1924 г. Секции и комиссии общества, в том числе секция стройматериалов, вели активную работу по изучению, пропаганде и внедрению научно-технических достижений: приглашали на заседания отечественных и зарубежных специалистов, организовывали выездные консультации. Так, в 1928 г. на заседании секции были заслушаны несколько докладов, в том числе немецких инженеров, о новых строительных материалах и специфике их применения. План работ на 1929 г. предполагал кроме лекций и докладов организацию подвижной выставки германских стандартных конструкций фабрик, заводов и жилых домов с демонстрацией стандартов строительных материалов, а также отправку в Германию проектов типовых домовых конструкций для консультаций и отзывов38. Именно через общество «Культура и техника» был приглашен в СССР в мае 1930 г. один из ведущих немецких градостроителей, Э. Май, для «чтения лекций, бесед и дачи консультаций»39.
Возникает закономерный вопрос, какие именно аспекты и достижения привлекали советскую сторону в зарубежном строительном опыте.
Во-первых, в сравнении с первой половиной 1920-х гг. возрос интерес к градостроительному проектированию. Прежде всего привлекал внимание уже не английский опыт проектирования поселков и пригородов-садов с живописной планировкой, являвшийся основным предметом интереса в дореволюционной и послереволюционной России, а планирование крупных поселений городского типа с массовой типизированной застройкой, в области которого лидером выступала Веймарская Германия. На второй план отошел и интерес к путям реконструкции крупного города, а приоритетным стало поселковое и городское планирование «с чистого листа», позволяющее создать промышленно-селитебные комплексы. В связи с плановым и внеплановым образованием промышленных конгломератов возник интерес и к новейшему опыту районной планировки40.
Во-вторых, объектом интереса выступало массовое жилище41. В 1926–1927 гг. начинается проектирование для города многоэтажного многоквартирного жилища. Масштабы задачи становятся понятными, если учесть, что в 1926 г. в 189 городах РСФСР (без Москвы и Ленинграда) доля домов в три и более этажей составляла только 0,3% [ Марковников , 1928, с. 7]. В западном, прежде всего германском, опыте привлекало разнообразие в типологии массовой жилой застройки и типизации жилой ячейки . Поиски способов удешевления массового жилстроительства заставили обратить внимание на так называемое «минимальное жилище» (малометражная квартира с полным благоустройством), которое стало наиболее востребованным в массовом жилом строительстве европейских стран, особенно в Германии, Голландии, Франции, Англии, с середины 1920-х гг. и по поводу которого в 1929 г. во Франкфурте-на-Майне был проведен специальный конгресс. Рационализация планировочных решений и использование типизированной строчной застройки в европейских поселках например, во франкфуртских поселках Вестхаузен, Хеллерхоф, Гольдштайн конца 1920-х гг. (Э. Май и др.), несомненно, служили ориентиром для советской практики.
В-третьих, важнейшей признавалась организация производства стройматериалов и строительного процесса. В промышленности стройматериалов было обращено внимание на высокое качество материалов при их невысокой себестоимости, разработку и внедрение новых строительных материалов, стандартизацию элементов и их серийное производство. Однако наиболее эффективной признавалась организация процесса строительства: строго рассчитанный и выдерживаемый календарный план работ, составленный проектировщиком, и своевременная готовность детально разработанных проектов; четкое распределение строительных и вспомогательных работ между отдельными подрядчиками и специализированными организациями, рациональная организация доставки на стройплощадку и распределения строительных материалов и механизмов, механизация работ; рационализация финансовой стороны строительства, достигаемая не только проведением перечисленных мероприятий, но и «изъятием непроизводительных промежуточных инстанций».
При параллельном развитии советской проектной системы по разработке типов массовой жилой застройки, при внедрении стандартизации и типизации и проектировании квартальной секционной застройки42, при активном стремлении овладеть передовыми западными технологиями камнем преткновения оказывалась именно организация, а точнее сущностный вопрос – эффективность социалистической организации хозяйства в целом и строительства в частности. Советская плановая экономика изначально делала невозможным результативное восприятие принципов организации из иной социально-экономической системы, и это программировало конфликт. И он воз- ник, когда опыт стал восприниматься не на расстоянии и с точки зрения восхищенных учеников, а в непосредственном взаимодействии с его носителями.
Отсчет о новом этапе взаимодействия с европейским опытом в сфере гражданского проектирования можно вести с «великого перелома» – 1929–1930 гг. Масштабы задач «сверхиндустриализации» заставляли активизировать восприятие западных технологий и пойти на массовое приглашение иностранных специалистов. Начало такой политики было положено еще в 1927–1928 гг., когда были приняты постановления СНК СССР «О привлечении специалистов из-за границы» (15.02.1927) и Политбюро ЦК ВКП (б) «О привлечении иностранных специалистов» (2.08.1928) [Индустриализация…, 1999, с. 222–225, 233–234]. Постановление 1927 г. требовало приглашать только высококвалифицированных специалистов на конкретные должности и для решения конкретных задач. Но уже через год согласно постановлению 1928 г. исходить нужно было уже «из необходимости привлечения… и специалистов среднего типа» и привлечь в народное хозяйство СССР в течение ближайших двух лет ориентировочно от 1000 до 3000 иностранных специалистов. «План по привлечению» иностранцев в строительные конторы и в производство строительных материалов в 1928 г. предусматривал приглашение 240 человек, причем три четверти их должны быть именно специалистами43. В 1928 г. при Строительном комитете ВСНХ СССР было создано Центральное бюро иностранной консультации (ЦБИК), также предполагалась организация иностранных бюро при строительных трестах и конторах44.
Массовый приток иностранных рабочих и специалистов начался в 1930 г. В 1932 г. их общее число составило свыше 16 тыс., причем доля специалистов достигала 15–20%45. Масштабы приглашения архитекторов и инженеров строительных специальностей были, конечно, несопоставимы с общим числом иностранных специалистов в СССР. Тем не менее самые разные проектные конторы и строительные предприятия начали подавать заявки на заключение договоров с иностранными специалистами либо самостоятельно приглашать архитекторов, техников, инженеров, проектировщиков. Они работали уже в более чем 50 организациях, а максимальное количество заключенных договоров пришлось на 1931 г., преимущественно это были договоры с германскими специалиста-ми46. В системе Союзстроя47 и Союзстандартжилстроя48 на 1 января 1932 г. работали 288 специалистов высшей квалификации и среднего звена49, и это без учета численности иностранных архитекторов, инженеров и техников, работавших вне этих объединений.
Глобальность задач, которые ставились перед приглашенными специалистами, отражена в договоре с германским архитектором Э. Маем. Согласно договору ему и его сотрудникам вменялись в обязанность «…б) составление проектов по планировке новых городов и поселков, а также перепланировке старых; …г) разработка мероприятий по рационализации и стандартизации строительства жилых домов и других гражданских сооружений, а также по улучшению методов проектировки и выполнения комплексного строительства городов и поселков с применением всех новейших достижений в области строительства…; д) разработка типовых проектов жилых домов и других гражданских сооружений; е) разработка проектов фабрик и заводов для производства стандартных жилищ…» На них возлагалась и обязанность по передаче наработанного опыта советским проектировщикам. В договоре было оговорено «…з) опубликование работ Бюро в особом журнале, издание книг и альбомов; и) ознакомление путем отдельных докладов инженерно-технических и общественных кругов с вопросами деятельности бюро… Кроме того, содействие в подготовке молодых советских специалистов путем прохождения студентами высших технических учебных заведений своей производственной практики в Бюро и поднятие квалификации молодых специалистов, окончивших советские высшие технические учебные заведения…»50. То есть круг задач не изменился в сравнении с предшествующим периодом, но их решение уже хотели получить из рук непосредственных носителей опыта и быстро.
Однако уже с 1932–1933 гг. ситуация стала меняться кардинальным образом не только в отношении непосредственно иностранных специалистов, работавших в СССР, но и по отношению к иностранному опыту, и процессы эти были параллельны и в промышленной сфере, и в гражданской. Тема восприятия современного зарубежного опыта была фактически полностью закрыта к 1937 г.
Таким образом, можно выделить три основных этапа в восприятии зарубежного опыта в области проектирования и строительства в 1920-х – 1930-х гг. При этом следует учитывать, что новый этап начинался, когда предыдущий еще не был завершен, а происходило окончание его доминанты, формируя одновременные разнонаправленные тенденции и соответствующую сложную картину «наложения». «Концессионный» период можно ограничить 1923 и 1929 гг., однако еще в 1926– 1927 гг. осознается ограниченность концессионного ресурса и на фоне его затухания определяется новый путь – непосредственное овладение западными технологиями и адаптация их к советским условиям. Его доминирование приходится на 1927–1929 гг., но начало маркировано указанным постановлением Политбюро ЦК РКП (б) от 1925 г. Наступление третьего этапа – массового привлечения в СССР непосредственных носителей опыта – можно датировать 1929 г. и связывать с началом политики «сверхиндустриализации», но зарождается он в недрах предшествующего периода, будучи обозначенным постановлениями СНК СССР и Политбюро ЦК ВКП (б) 1927–1928 гг. Его доминанта завершается в 1932–1933 гг., однако в целом использование иностранных специалистов в СССР продолжая до 1937 г. Исходя из сказанного рассматриваемый процесс охватывает 1923– 1937 гг., и это достаточно длительный срок, чтобы сделать актуальным изучение результатов сотрудничества – вопрос поставленный, но до сих пор не решенный.
Список литературы Восприятие европейского опыта в городском планировании и строительстве в советской России 1920-х - 1930-х годов: этапы и формы
- Архитектура современного Запада/Д. Аркин. М., 1932.
- Бутковский В. Иностранные концессии в народном хозяйстве СССР. М.;Л., 1928.
- Концессии в жилищном строительстве, коммунальном и транспортном хозяйстве России и СССР: док. и матер./М.М. Загорулько. Волгоград, 2006.
- Жилище в России: век ХХ. Архитектура и социальная история. М., 2001.
- Индустриализация Советского Союза: Новые документы. Новые факты. Новые подходы. М., 1999.
- Казусь И.А. Советская архитектура 1920-х гг.: организация проектирования. М., 2009.
- Коммунальное хозяйство СССР к концу первой пятилетки. М., 1933.
- Конышева Е.В., Меерович М.Г. Эрнст Май и проектирование социалистических городов в годы первых пятилеток (на примере Магнитогорска). М., 2012.
- Конышева Е.В. Европейские архитекторы на стройках первых пятилеток (в аспекте повседневности)//Архитектон: известия вузов. 2010. № 32. URL: http://archvuz.ru/numbers/2010_4/010 (дата обращения: 25.04.2014).
- Конышева Е.В. Европейские архитекторы в советском градостроительном проектировании периода первых пятилеток: конфликтные узлы//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально -гуманитарные науки. 2013. Т. 13, № 2.
- Косенкова Ю.Л. Районная планировка в СССР. Опыт 1920-х-1930-х годов//Архитектурное наследство. М., 2011. № 55.
- Марковников Н.В. Жилищное строительство за границей и в СССР. М., 1928.
- Меерович М.Г. Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство управления людьми. 1917-1937. М., 2008.
- Меерович М.Г. Рождение и смерть города-сада. Градостроительная политика в СССР 1917-1926 гг. Иркутск, 2008а.
- Меерович М.Г. Рождение соцгорода. Градостроительная политика в СССР 1926-1932 гг. Иркутск, 2008б.
- Меерович М.Г. Эрнст Май: рациональное жилье для России//Архитектон: известия вузов. 2011. № 36. URL: http://archvuz.ru/2011_4/14 (дата обращения: 25.04.2014).
- Меерович М.Г., Хмельницкий Д.С. Американские и немецкие архитекторы в борьбе за советскую индустриализацию//Вестник Евразии. 2006. № 1. URL: http://www.eavest.ru/magasin/artikelen/2006-1_mee.htm (дата обращения: 25.04.2014).
- Меерович М.Г., Хмельницкий Д.С. Роль иностранных архитекторов в становлении советской индустриализации//Пространственная экономика. 2005. № 4.
- Народное хозяйство СССР: стат. справочник. М.; Л., 1932.
- Современное жилищное строительство на Западе. М., 1925.
- Современное строительство Германии. Первая заграничная экскурсия инженеров-строителей и архитекторов. 2-е изд. М., 1929.
- Хазанова В.Э. Советская архитектура первых лет Октября. 1917-1925. М., 1970.
- Хазанова В.Э. Советская архитектура первой пятилетки. Проблемы города будущего. М., 1980.
- Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. Кн. 2: Социальные проблемы. М., 2001.
- Шпотов Б.М. Американский бизнес и советский Союз в 1920-1930-е годы. М., 2012.