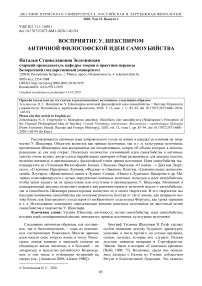Восприятие У. Шекспиром античной философской идеи самоубийства
Автор: Зелезинская Наталья Станиславовна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 1 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается античная идея добровольного ухода из жизни в ракурсе ее влияния на творчество У. Шекспира. Объектом являются как прямые источники, так и т. н. культурные источники, прочитанные Шекспиром или воспринятые им опосредованно, вопрос об объеме которых в шекспироведении до сих пор открыт. Поскольку количество упоминаний идеи самоубийства в античных текстах очень велико, автор статьи вырабатывает критерии отбора релевантных для анализа текстов, включая значимые и оригинальные с философской точки зрения источники. Идея самоубийства эксплицируется из «Утешения Философией» Боэция, «Энеиды» Вергилия, «О жизни…» Диогена Лаэртского, «О кончине Перегрина» Лукиана, «Федона» и «Законов» Платона, «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха, «Нравственных писем к Луцию» Сенеки, «Писем к Луцилию» Цицерона и др. Материал классифицируется с целью определения основных античных подходов к идее самоубийства, чтобы затем указать на их присутствие или отсутствие в произведениях У. Шекспира. Мотивный и компаративный анализы позволяют выявить как разновекторность античной мысли о самоубийстве, так и способность Шекспира разносторонне воплотить ее в своем творчестве. В его творчестве мы находим понимание самоубийства как пессимистического бегства от тягот жизни, как неправого вызова богам, как благородного ухода героя от необратимого хода колеса Фортуны, как урока терпения и т. д. Исследование доказывает определяющее влияние античных источников на частотный мотив самоубийства в творчестве У. Шекспира.
Уильям шекспир, античность, мотив самоубийства, идея самоубийства, история идей, компаративный анализ, менталитет, прямые источники, культурные источники
Короткий адрес: https://sciup.org/147229683
IDR: 147229683 | УДК: 821.111: | DOI: 10.17072/2073-6681-2020-1-85-94
Текст научной статьи Восприятие У. Шекспиром античной философской идеи самоубийства
Следование античным образцам, как осознанное, так и бессознательное, – одна из неизменных составляющих Ренессанса. Многие древние идеи нашли свою вторую жизнь в эпоху Ренессанса, оказав влияние в меньшей степени на обыденную жизнь англичан, а в большей – на литературу и искусство английского Возрождения, в том числе в отношении воззрений на смерть (см.: [Аванесов 2000; Alvarez 1980]).
Биограф Уильяма Шекспира В. Ролф уделяет особое внимание детству будущего драматурга, указывая, в числе прочего, на устные предания, сказки, легенды, которые мог слушать Уильям долгими зимними вечерами в Стрэтфорде-на-Эйвоне. Были и истории об античных временах [Rolfe 1900: 75]. Возможно, среди них попадались легенды о Катоне из Уттики, доблестном Регуле и благочестивой Лукреции. Эти сюжеты
тогда были на слуху, как сегодня сюжеты самого Шекспира.
Античные истории попали и в круг первого чтения Шекспира: в Стрэтфордской грамматической школе греческий и латинский изучались по великим авторам [Bate 2018: 4–14; Baldwin 1977]. Однако важным представляется тот факт, что далеко не всегда Шекспир знакомился с первоисточниками. В первую очередь, следует иметь в виду, что многие произведения древнегреческих авторов были переведены на латинский или греческие сюжеты были заимствованы римлянами. Сведения по греческой мифологии (и значительному количеству мифологических самоубийств) содержатся в произведениях римских авторов I в. до н. э. – II в. н. э., а это Овидий, Вергилий, Гораций, Лукреций Кар, Тибулл, Проперций, Апулей, Стаций, Лукиан, Силий Италик и другие, установить же, от какого автора Шекспир узнал тот или иной миф, невозможно – все они были доступны.
Во-вторых, и те и другие в значительной степени были известны елизаветинцам в переложениях на английском языке и в большинстве случаев англичане добавляли свою интерпретацию излагаемого сюжета. Так, при переводе «Илиады» и «Одиссеи» Д. Чапмен принимает точку зрения на события Вергилия и Горация, а не Гомера. Таким образом, получается, что Шекспир был знаком с эллинистической традицией, в основном, по переводам-пересказам первичным – на латинский либо вторичным – с греческого на латинский либо французский, потом на английский. Так, «Сравнительные жизнеописания» Плутарха перевел на английский сэр Т. Норт в 1579 г. с французского перевода 1559 г. Ж. Амио. «Метаморфозы» Овидия были прочитаны Шекспиром и на латинском, и в переводе А. Голдинга (хотя по этому вопросу всегда было много споров среди шекспироведов [Bate 2018; Miola 1983; Muir 1961; Nuttall 2004; Wilson 1948]). Если добавить к этому увиденные Шекспиром постановки на античные сюжеты, становится ясно, что трудно разграничить греческие и латинские влияния на его творчество. В рамках статьи мы будем говорить об их общем влиянии на формирование шекспировских воззрений на добровольный уход из жизни, поскольку уверены, что в сознании Шекспира древнегреческий и древнеримский дискурсы самоубийства не были разделены.
Для того чтобы провести сравнительный анализ античных сюжетов в поэзии и драматургии Шекспира, необходимо ограничить круг нашего рассмотрения теми текстами, которые:
-
а) вне всякого сомнения (по доказательному мнению шекспироведов) оказали влияние на творчество драматурга. Мы руководствовались
работами: [Bate 2018; Miola 1983; Muir1961; Narrative and Dramatic Sources of all Shakespeare's works: 1967-75; Nuttall 2004; Wilson 1948];
-
б) содержат четко выраженные суждения о самоубийстве в нехудожественных текстах.
В отдельных случаях мы опираемся на суждения о смерти, поскольку отношение к смерти определяет отношение к самоубийству.
Античная философская мысль относилась к самоубийству неоднозначно. Можно выделить несколько мощных течений, каждое из которых оставалось актуальным продолжительное время.
Во-первых, представления о самоубийстве были тесно связаны с идеей свободы и права выбора – мировоззренческими понятиями для эллинов и римлян. Свобода от внешнего давления предполагала право самостоятельно принимать решения, распоряжаться собой, своей жизнью и своей смертью. Как отмечает А. Н. Моховиков, свобода для них была «творческой, самоубийство поэтому в известной мере являлось креативным актом» [Моховиков 2013: 11]. С другой стороны, как пишут Л. Трегубов и Ю. Вагин, «любое государство по своей сути всегда стремится так или иначе регламентировать быт своих граждан. Смерть и в этом смысле не является исключением. Так, в Древней Греции и в Древнем Риме государственная власть пыталась установить, в каких случаях правомерно и допустимо человеку лишать себя жизни» [Трегубов 1998: 19].
Так что в вопросе самоубийства уже очевидна потенциальная дилемма, спор между правом индивида на свободу и правом государства ограничивать свободу индивида законом. Естественно, право на жизнь и право на смерть видятся обеим сторонам как важнейшие и потому именно на них они стремятся простирать свое волю. Платон первым (насколько нам известно) установил прямой запрет на добровольную смерть в своих «Законах» и все же сопроводил его перечнем исключений (приговор государства, неотвратимое страдание, тягостный стыд), дав начало, таким образом, искусству умирания – ars moriendi [Платон 1998: IX 873 сd 363, 615].
Самый известный ученик Платона Аристотель был абсолютно последователен в своем осуждении самоубийства, однозначно ставя его вне закона [Аристотель 2004: 151-156]. Философ защищал точку зрения о том, что жизнь человека принадлежит богам. Порфирий и Плотин следовали за учителем и тоже развивали мысль о прерогативе богов распоряжаться своим созданием – человеком. Ее стойкость обнаруживается на протяжении всей эпохи вплоть до «последнего римлянина». В интерпретации С. Боэция эта философия терпения весьма близка христианскому менталитету.
Боэций два года провел в тюрьме в ожидании казни, но плодом его размышлений стало не самоубийство как освобождение от мытарств, а трактат «Утешение Философией», написанный в виде диалога. Пусть этот трактат затрагивает вопросы несправедливости жизни и пессимистичен по своей тональности, основной посыл автора – творить добро и жить, невзирая ни на что. Тот же вывод делали зрители якобинского театра, наблюдая разыгранный графом Глостером и его переодетым в нищего сыном Эдгаром диалог в середине трагедии «Король Лир».
Можно предположить, что Шекспир следует за Платоном, Аристотелем, Порфирием, Плотином и Боэцием, «отговаривая» своих героев от самоубийства (Гамлета, Горацио, графа Глостера). Однако выражение запрета на самостоятельное осуществление смерти у Шекспира всегда однозначно помещено в христианскую парадигму, связано с богоотступничеством, богобояз-нью, страхом смерти как неопределенностью, страхом перед Божьим наказанием за грех, концепциями предопределения, религиозного отчаяния и христианского терпения. Мы считаем, что в сознании английского драматурга запрет на самоубийство оставался чисто христианской идеей, несмотря на то, что объективно христиане заимствовали его из античности, что видно по «переходной» философии Боэция. Это неудивительно, во-первых, потому что с большей частью из этих античных авторов, как мы знаем сегодня, Шекспир знаком не был, т. е. воспринимал описанную идею не во всей полноте. Во-вторых, категоричный христианский запрет, подкрепленный страхом людского осуждения и уголовного наказания (попытки суицида в ренессансной Англии преследовались по закону), явно был весомее для еще теоцентричного менталитета.
Из античности Шекспир почерпнул скорее другое отношение к самоубийству ‒ в рамках парадигмы свободы воли. Начало философии смерти как свободы, как ни странно, также положил Платон, точнее, другое его произведение ‒ диалог «Федон». Идеи диалога «Федон» произвели огромнейшее впечатление на современников и потомков и сыграли решающую роль в восприятии последними античной идеи самоубийства. Знание Шекспиром философского произведения Платона о Сократе «Федон» не подлежит сомнению ввиду наличия параллелей между текстами «Гамлета» и «Федона» Платона. На сюжетном уровне Платон повествует о смерти Сократа, которая ввиду высшей степени осознанности и высокой эстетичности значительно способствовала знаменитости философа и отражала его жизненную философию. За речи, возмущавшие общественный порядок и устоявшие- ся взгляды граждан Афин, Сократу был вынесен смертный приговор. Он морально был готов к смерти, не согласился на подготовленный учениками побег, а побеседовал с ними и в достоинстве, сознательности и покое выпил приготовленный яд из цикуты.
Повествователь Федон с самого начала выделяет необычность этой славной смерти: «Хорошо. Так вот, сидя подле него, я испытывал удивительное чувство. Я был свидетелем кончины близкого друга, а между тем жалости к нему не ощущал – он казался мне счастливцем, Эхекрат, я видел поступки и слышал речи счастливого человека! До того бесстрашно и благородно он умирал, что у меня даже являлась мысль, будто и в Аид он отходит не без божественного предопределения и там, в Аиде, будет блаженнее, чем кто-либо иной. Вот почему особой жалости я не ощущал – вопреки всем ожиданиям, – но вместе с тем философская беседа (а именно такого свойства шли у нас разговоры) не доставила мне привычного удовольствия. Это было какое-то совершенно небывалое чувство, какое-то странное смешение удовольствия и скорби – при мысли, что он вот-вот должен умереть. И все, кто собрался в тюрьме, были почти в таком же расположении духа и то смеялись, то плакали, в особенности один из нас – Аполлодор. Ты, верно, знаешь этого человека и его нрав» [Платон 1970: 58e–59a]1. Согласно рассказу Федона, благородство, предопределенность, эстетичность, посмертная слава – вот то, что выделяет идеальную античную смерть Сократа.
Непосредственно о самоубийстве речь идет во вступительной части диалога: «Так почему же все-таки, Сократ, считается, что убить самого себя непозволительно?» (61е) – вопрошает Ке-бет. То есть изначально логика текста исходит из запрета на самоубийство и аргументации этого запрета. Сократ сводит ее к тому, что «мы, люди, находимся как бы под стражей и не следует ни избавляться от нее своими силами, ни бежать… о нас пекутся и заботятся боги, и потому мы, люди, – часть божественного достояния!» (62b). Соглашаясь с запретом, Сократ постоянно делает исключения: «Бесспорно, есть люди, которым лучше умереть, чем жить, и, размышляя о них – о тех, кому лучше умереть, ты будешь озадачен, почему считается нечестивым, если такие люди сами окажут себе благодеяние, почему они обязаны ждать, пока их облагодетельствует кто-то другой» (62а). И далее Сократ переходит к собственному примеру: «Совсем не бессмысленно, чтобы человек не лишал себя жизни, пока бог каким-нибудь образом его к этому не принудит, вроде как, например, сегодня – меня» (62b).
Ученики возражают против возможности самоубийства для кого бы то ни было (метя в Сократа, по их признанию): «С какой стати людям поистине мудрым бежать хозяев (богов), которые лучше и выше их самих?» (63а). На что Сократ хитро возражает, что надеется «предстать перед богами, самыми добрыми из владык» (63с) и, кроме того, «никаких оснований для недовольства у меня нет, я полон радостной надежды, что умерших ждет некое будущее и что оно, как гласят и старинные предания, неизмеримо лучше для добрых, чем для дурных» (63с). Это и есть переход к основной идее произведения – бессмертию души. То есть философ, веря в бессмертие души, оправдывал самоубийство, поскольку после смерти умершего ждет радость, несказанно больше той, что видит он здесь. Как отмечает А. А. Тахо-Годи, упомянутый Сократом в самом конце его жизненного пути петух означает выздоровление и освобождение от земных невзгод (по традиции, выздоравливающие петуха приносили в жертву богу Асклепию) [Та-хо-Годи 1970: 505].
Мы видим, что Платон устами Сократа осуждал необоснованный суицид, но оправдывал обоснованный. Хотя этот критерий в рассматриваемый нами период явно старались привести к максимальной объективности, философ избегает конкретики (в противоположность «Законам»). Конечно, это сложная задача: каждому человеку, всерьез выбирающему между жизнью и смертью, его ситуация, несомненно, кажется тупиковой, а смерть оправданной и потому неизбежной.
Первая часть диалога раскрывает важнейшую задачу философа: заниматься мыслями о смерти и умирании и не страшиться их. Вопросу преодоления «страхов ума» [Диоген 1998: X 142] много внимания уделил Эпикур. В описании жизни и философии Эпикура Диогеном Лаэртским нет открытых призывов к самоубийству. В изложении Лукреция Кара отношение эпикурейства к самовольному уходу из жизни двояко. В начале поэмы он осуждает его, а несколько дальше удивляется, отчего же несчастные не прерывают своих несчастий самостоятельно [Лукреций III, 79–82, 933–943]. Эпикурейский по духу трактат «О природе вещей» был чрезвычайно популярен в елизаветинской Англии.
Важно то, что Эпикур исходил из посылки, будто смерть приходит в свой час одномоментно и поэтому не существует для субъекта и, следовательно, не надо ее бояться. Кроме того, как мы помним, Эпикур отказывал душе в бессмертии, следовательно, ничто после смерти страшить человека не может, ибо там ничего нет. С его точки зрения, мытарства Боэция бессмысленны.
Эпикурейство же легко подвергается критике, и последующие философы, развивающие идеи Платона о необходимости преодоления страха смерти, шли по другому пути: они включали мысль о смерти в жизнь, делали ее имманентной самой жизни и тем принятой. Именно мысли о смерти помогают не бояться ее, но подчинить жизнь вечному, о чем – во всех ars moriendi Средневековья и Ренессанса.
В этом ключе позже развивали идею преодоления страха смерти многие философы, наиболее подробно М. Монтень в «Опытах» (глава «О том, что философствовать значит учиться умирать») и А. Камю в сочинении «Миф о Сизифе: эссе об абсурде». Оба философа показывают, что вопрос преодоления страха смерти непременно ведет к вопросу, «стоит ли жизнь того, чтобы быть прожитой» [Камю2000: 3].
Из-за понимания самоубийства как способа скорейшего достижения идеального состояния, из-за соблазнительных описаний свободы, что дарует смерть, и вдохновенного примера великого Сократа на бытовом уровне восприятия произведение Платона «Федон» в дальнейшем вдохновило многих самоубийц. «Клеомброт, по преданию, бросился в море, прочитав «Федона». Об этом 23-я эпиграмма Каллимаха: «Солнцу сказавши «прости», Клеомброт-амбракиец внезапно // Кинулся вниз со стены прямо в Аид. Он не знал // Горя такого, что смерти желать бы его заставляло: // Только Платона прочел он диалог о душе», – цитирует А. А. Тахо-Годи [Тахо-Годи 1970: 498]. Мысль о самоубийстве как воплощении права человека распоряжаться своей жизнью четко выражена в предсмертных словах шекспировского Антония: “Not Caesar’s valour hath o’erthrown Antony, / But Antony’s hath triumphed on itself” [Shakespeare 2017: V, 1, 15–16].
Совершенно иной дискурс самоубийства создал своей жизнью и смертью другой греческий философ – Эмпедокл, сведениям о котором мы обязаны Диогену Лаэртскому, Тертуллиану, сохранившимся отрывкам его собственных сочинений. Общим местом в философии Сократа (в видении Платона) и Эмпедокла является принятие самоубийства как неотъемлемого права человека, как пути от плохого к лучшему, однако Эмпедокл идет дальше, расширяя свое право в область онтологическую. Главным для Эмпедокла было самообожение (термин Т. В. Бузиной [Бузина 2014]) – он позиционировал себя богом уже при жизни. Для доказательства своего божественного статуса, желая, чтобы «впечатление о нем как о боге у современников осталось навсегда, Эмпедокл и бросился в огонь», – т. е. в кратер вулкана Этна [Диоген Лаэртский 1998: 320-327]. Мнения о причине взаимообусловлен- ности самоубийства и «божественности» в связи со случаем Эмпедокла расходятся, но «ещё никому не пришло в голову оспаривать необходимость связи между ними – человекобог есть в конце концов самоубийца» [Аванесов 2000: 67].
В философии Эмпедокла необходимость самоуничтожения безусловно вытекала из его посягательств на божественность. Его идея о том, что самоубийством человек доказывает свою всесильность и безнаказанность, т. е. идея права высшего существа – бога, просуществовала в веках и нашла абсолютного апологета в лице Ницше, осознанно воссоздававшего образ Эмпедокла. В литературе самоубийство в целях само-обожения реализовал Кириллов в «Бесах» Достоевского. Однако, в отличие от цельности античных философов, современный герой уже мечется в сомнениях, отягощенных христианской традицией 20 веков. Из шекспировских героев интересен в этом отношении Кориолан, о котором приближенные говорят, что он ведет себя как бог и вот-вот сравняется с богом. И, конечно, челове-кобогом мнит себя Макбет: “I dare do all that may become a man: / Who dares more is none” [Shakespeare 2017: Act 1, scene 7]. В ситуации краха он намеренно отказывается от античного понимания virtus, ставя себя в финале пьесы вне закона, и государственного, и человеческого. В его устах отказ от самоубийства в ситуации проигрыша означает отказ от системы традиционных нравственных ценностей, выработанной к якобинскому периоду Шекспиром во всех трагедиях: герой, потерпевший крах, поражение, совершивший ошибку, должен умереть, желательно, от собственной руки (Брут, Кассий, Отелло, Ромео, Джульетта, Антоний, Клеопатра, Тимон). В качестве примера, противоположного нравственно павшему кавдорскому тану, вспомним благородного Отелло и его последние слова: “no way but this, / Killing myself” [Shakespeare 2017: V, 2, 359–360].
Прямо противоположного мнения придерживались сторонники пессимизма и фатализма, «получивших небывалое распространение в античную эпоху» [Колмаков 2012: 131]. Пессимизм был выражен поэтами, драматургами и философами, многие из которых призывали не ждать окончания этих бед, поскольку они неизбежны, и уйти самостоятельно.
До абсолюта довел эту мысль киренаик Геге-сий, читая лекции о тщете земных страданий и призывая к осуществлению собственной смерти собственными силами ради избавлений от мук (сведения об Учителе смерти (πεισιθάνατος) и его философской работе «Умерщвляющий себя голодом» можно почерпнуть из сочинения Диогена Лаэртского и «Тускуланских бесед» Цице- рона [Диоген Лаэртский 1998: II, 86; Цицерон 2008: I, 83]). Проповеди Гегесия вели к т. н. школам искусства добровольной смерти, особенно распространившимся в позднюю античность. О способности самоубийства закончить тысячу жизненных мук – первая часть монолога Гамлета: “by a sleep to say we end / The heart-ache and the thousand natural shocks” [Shake-speare…2017: III, 1, 61–62]. Мысль принца все же устремляется в другое русло, а до логического финала пессимистическое мировоззрение доводит протагониста героя трагедии «Тимон Афинский», находившей, очевидно, своего зрителя в эпоху королевы Елизаветы, но сегодня мало интересной ввиду как раз, как нам кажется, малосимпатичных нашим современникам взглядов и характера протагониста. Популярнее оказался сонет 66: “Tired with all these for restful death I cry” [ibid.: 28].
Пессимизм и фатализм получили развитие в стоицизме, который внес весомую лепту в развитие идеи самоубийства. У Марка Аврелия (121– 180 гг. н. э.) находим советы по ars moriendi: уйти обдуманно, в подходящий момент, без поспешности и пафосных жестов [Аврелий 2015].
Обращаясь к стоицизму, Марк Туллий Цицерон (106–43 до н. э.) в первой из «Тускуланских бесед» восхваляет самоубийства Гегесия и Клеомброта, радостное принятие смерти Фера-меном и Сократом, а также замечает, что своевременный уход из жизни есть для многих людей спасение от ужасных бедствий. В пример философ приводит Приама, который, умри он до падения Трои, прожил бы жизнь счастливым человеком в почете и богатстве среди родных и близких [Цицерон 2018: 9–13].
Высказывание «В жизни нужно следовать закону, который почитался на греческих пирах: пусть пьет либо уходит» тоже принадлежит Цицерону [Цицерон 2008: 782], и с ним согласился бы любой стоик. А вот фраза «Пусть душа погибает так же, как тело» из «Тускуланских бесед» скорее эпикурейская [Цицерон 2018: I, 82], как жизнь и смерть самого Цицерона в интерпретации Диогена Лаэртского [Диоген Лаэртский 1998: «Цицерон»]. Высказывания Цицерона показывают, что противоположные по сути философские течения смыкаются в отношении к идее самоубийства. В этом явлении мы усматриваем типично античные ментальные установки: «Античное представление о человеке было статуарно-замкнутым и массивно-целостным. Аристократический античный идеал свободы означал культ жеста, спокойствия, красоты. Греческое искусство не знает ни ярких образов телесного страдания, ни безоглядной духовной устремленности. Олимпийским богам чужды чувства страха, жалости, надежды, а для человека, считающе- го высшим благом освобождение от страданий, даже самоубийство может быть добродетелью, приближающей его к богам» [Кон 1984: 44].
Стоические идеи представил в своих философских трудах и драмах Сенека. Нам бы хотелось обратить внимание на «Письма к Луци-лию», в которых с наибольшей последовательностью и настойчивостью философ живописует смерть и самоубийство.
Сенека учит Луцилия, что получать удовольствие от жизни можно лишь в том случае, если ты хозяин своей жизни, готов с ней расстаться в любой момент и можешь думать о смерти без страха. «Думай об одном, готовься к одному: встретить смерть, а если подскажут обстоятельства, и приблизить ее. Ведь нет никакой разницы, она ли к нам придет, мы ли к ней. Внуши себе, что лжет общий голос невежд, утверждающих, будто “самое лучшее – умереть своей смертью”. Чужой смертью никто не умирает. И подумай еще вот о чем: никто не умирает не в свой срок. Своего времени ты не потеряешь: ведь то, что ты оставляешь после себя, то не твое» [Сенека 2001: 30]. Особенно важно для человека, чтобы и жизнь, и смерть были достойными. Сенека порицал самоубийства от глупости или страха, поскольку самое важное – «хорошо умереть», «а хорошо умереть – значит избежать опасности жить дурно» [там же: 31]. Главным он считал не пропустить тот момент, когда умереть лучше, чем жить: «не за всякую цену можно покупать жизнь», поэтому «лучшее из устроенного вечным законом – то, что он дал нам один путь в жизнь, но множество – прочь из жизни» [там же: 31–32]. Письмо четвертое гласит: «Каждый день размышляй об этом, чтобы ты мог равнодушно расстаться с жизнью, за которую многие цепляются и держатся, словно уносимые потоком – за колючие кусты и острые камни. Большинство так и мечется между страхом смерти и мученьями жизни; жалкие, они и жить не хотят, и умереть не умеют» [Сенека 2001: 28]. Очевидна параллель выделенных отрывков письма с сомнениями и метаниями Гамлета (по поводу того, что мешает расстаться с мучениями жизни). В его знаменитом монологе спорят две системы ценностей: стоическая добивается, чтобы «дух презрел жизнь» и не метался «между страхом смерти и мучениями жизни», христианская заставляет страшиться того, что будет после смерти, поскольку смерть не заканчивает ничего [Shakespeare 2018: III, 1, 76–78].
Хотя Плутарх не относил себя к стоикам и даже спорил с их доктринами, на его «Сравнительные жизнеописания» оказали влияние и платонизм, и стоицизм, что заметно в т. ч. в описаниях знаменитых самоубийств и размышлениях о них. Так, Плутарх сравнивает смерть Цицерона и Демосфена и восхваляет (“we must admire”) последнего за предвидение гонений и мужество приберечь яд для такого случая и употребить его в нужный момент, а не прятаться и бежать смерти, как Цицерон [Plutarch 1579: “Demosthenes” 29–30, “Comparison of Demosphenos and Cicero” 5]. Именно Плутарху обязан Шекспир великолепными трагедиями «Юлий Цезарь» и «Антоний и Клеопатра». Благодаря Плутарху и его замечаниям у английского драматурга историчны, тонко мотивированы и тщательно прорисованы самоубийства Клеопатры, Антония [Plutarch 1579: “Antony”], Порции [Plutarch 1579: “Brutus” 23, 53], Кассия [Plutarch 1579: “Brutus” 43–44], Титиния [Plutarch 1579: “Brutus” 43], Брута [Plutarch 1579: “Brutus”].
Возможно, аллюзиями на известных самоубийц Шекспир также обязан чтению Плутарха (например, аллюзиями на Катона – “But all such ill-report was blotted out and removed by the manner of his death” [Plutarch 1579: “Cato the Younger” 3, 4] или экфрасисом в поэме «Лукреция» [Plutarch 1579: “Brutus” 23]. Но все же эти имена были на слуху в елизаветинской Англии и упомянуть их можно было, опираясь на общие школьные знания.
Вырисовывающуюся парадигму античного самоубийства разделяли и другие историки (Геродот, Ливий, Тацит, Плиний и др.). У Геродота с пренебрежением описано самоубийство Панти-та – единственного воина, участвовавшего в битве при Фермопилах и оставшегося в живых. По возвращении в Спарту его подвергли гонениям и презрению, и Пантит повесился [Геродот 1993: VII, 232]. Такое самоубийство – совершенное трусом и предателем от стыда и отчаяния, – воспроизводит Шекспир в мотиве смерти Энобарба, утопившегося в сточной канаве [Shakespeare 2017: IV, 9, 15–26]. У Лукана самоубийство благородного героя в ситуации поражения воспето в «Фарсалии», где описаны гражданская война и побежденные, своими самоубийствами лишающие врага возможности насладиться их смертью [Лукан1993]. У Тита Ливия из «Истории от основания Рима» У. Шекспир заимствует повествование о Лукреции [Livius 1914: I, 57-59].
Из выделенных нами философских произведений, охватывающих своим влиянием века, вырисовывается цивилизация, где за человеком признавалось право уйти в мир иной, когда ему заблагорассудится. Немало философов поддерживали максиму «Пусть умирает тот, кто жить не хочет».
Хотелось бы подчеркнуть, что распространенные практики самоубийств у древних греков и римлян далеко не всегда были связаны с пессимистическим мировоззрением, но часто, наоборот, увязывались с честолюбивыми стремлениями уподобиться богам, достичь славы, сохранить достоинство и честное имя, преодолеть страх смерти, а оттого нет никакого противоречия между жизнерадостностью мировоззрения эллинов и их апологией добровольного ухода из жизни.
Здесь нужно также отметить, что, изучая отношение древнего мира к идее самоубийства по философским трактатам, биографиям, историческим трудам, мы мало что узнаем о положении вещей в реальности. Никакой статистики не велось, а в биографии попадали примеры философов, но не обычных людей. Так о практиках, подобных обычаю пожилых о. Кеса (Кеоса / Кеи) в 60 лет выпивать яд, упоминается вскользь, как о чем-то само собой разумеющемся [Диоген 1998: I, 2, 55, 60–61]. Поэтому напомним, что наблюдения наши строятся на истории идеи и объектом нашего изучения является текстуально закрепленное восприятие идеи самоубийства античным миром, а затем рецепция этой идеи елизаветинским менталитетом.
Из рассмотренных нами философских и исторических трудов можно сделать вывод, что Древняя Греция и особенно Древний Рим представляли ту модель цивилизации, где за человеком признавалось право распоряжаться своей жизнью, а значит, и выбирать час своей смерти. Полагаем, что такое же впечатление создалось у Шекспира по ознакомлению с античными источниками. Анализ творчества Шекспира показывает следующее.
-
1. Античная идея добровольного ухода из жизни была воспринята Шекспиром однобоко, не во всей полноте. Причин тому две. Во-первых, неполный охват античной философской литературы по этому вопросу. Так, с трудами Аристотеля – главного античного противника самоубийства – Шекспир знаком не был. Вторая причина связана с восприятием античных идей в елизаветинской (чаще всего, но также европейской) интерпретации. Вторичность источника вкупе с переводческими стратегиями XVI в. исказила оригиналы.
-
2. Античность у Шекспира ассоциировалась с самоубийствами. Во всех античных сюжетах мотив самоубийства становится ведущим мортальным мотивом и одним из ведущих мотивов произведения. Возвращение к античной парадигме прослеживается в теме мести, морали стоицизма, спасении чести семьи как основной причины самоубийства. Ассоциации, сближающие понятия античного Рима и самоубийства, связаны, в свою очередь, с античным поведенческим кодом, пониманием virtus, с возвышенной концепцией
-
3. Добровольный уход из жизни воспринимался как античный образец поведения в неразрешимых ситуациях. Доказательством того, что античность и суицид были неразрывно связаны друг с другом в сознании Шекспира, является тот факт, что даже если герой (не античных сюжетов) задумывается о самоубийстве, ему невольно приходят на ум римляне, например: “Why should I play the roman fool, and die / On mine own sword?” [Shakespeare 2017: V, 7].
-
4. Античные герои в момент самоубийства и их добровольная смерть (Лукреции, Брута, Антония и др.) наделяются теми же эпитетами, что и смерть Сократа в «Федоне»: бесстрашный, благородный, честный, великий (noble, great, brave, honour), наибольшая концентрация этих эпитетов достигается в момент самоубийства и непосредственно после него. Таким образом, самоубийство, совершенное в рамках античной эстетики, приветствовалось и даже вызывало восхищение у елизаветинцев (забегая вперед, заметим, что к себе они этот образец не относили, восхищаясь «издалека»).
-
5. Парадигма шекспировского самоубийства (типологическая зависимость причины, способа, эстетики и аксиологии смерти) заимствована из античных воззрений: как и в античных источниках, добровольная смерть во имя спасения чести осуществляется холодным оружием, трусливый уход от страданий метафорически выражен прыжком с обрыва, предатель же должен удавить себя петлей.
-
6. Есть у Шекспира герои, которые не следуют безоглядно римскому образцу не потому, что им отказано в благородстве, но потому, что они не римляне и не греки, а герои нового времени, значит, их сознание определено христианскими и ренессансными (без противопоставления определений друг другу, но как понятия разного объема) ценностями. Эти персонажи много размышляют над самоубийством. В их доводах против самоубийства превалирует, во-первых, боязнь нарушить божий запрет распоряжаться собственной жизнью (по сути, это церковный запрет, установленный лишь в 452 г. н. э. Арльским собором), во-вторых, страх смерти и того, что случится с душой после смерти (ввиду вошедшей в силу концепции предопределения) [Shakespeare’s world 1989: 44–47]. И заметим, что эпикурейская идея о том, что нет смысла терпеть страдания, которые иным способом ты преодолеть не можешь, у Шекспира отрицается по причине ее явного противодействия христианскому учению.
благородства, смелости, свободы и добродетели, со стоиками и Катоном. Своим самоубийством эти герои защищают virtus, доказывают принадлежность Риму как социууму, встроенность в систему римских ценностей, верность стоицизму. Исключительно в античной парадигме изображено самоубийство благородной Порции. В «Кориолане» и протагонист, и его мать Во-лумния рассматривают возможность самоубийства, исходя из античных представлений о жизни и смерти в определенных жизненных обстоятельствах, но в финале героя, проявившего милосердие, ждут убийцы. Кстати, Волумния упоминает такой способ смерти как inedia, – практикуемый в античности, но совершенно забытый в эпоху Ренессанса. Добровольно покидает этот мир Тимон Афинский. Все вышеупомянутые герои вписываются в федоновскую парадигму: для каждого из них наступает тот исключительный случай, когда они не только имеют право, но и должны избрать самоубийство. Более того, воля богов трактуется ими как призыв уйти немедленно и достойно. Самоубийство оказывается логичным и единственно верным ответом на жизненную ситуацию.
Список литературы Восприятие У. Шекспиром античной философской идеи самоубийства
- Аванесов С. С. Введение в философскую суи-цидологию. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. 124 с.
- Аврелий М. Наедине с собой. Размышления. М.: Азбука-Классика, 2015. 192 с.
- Аристотель. Этика. М.: АСТ, 2004. 491 [2] с.
- Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс, 1992. 528 с.
- Бузина Т. В. Жажда самообожения - сквозной сюжет Уильяма Шекспира. Самообожение в европейской культуре. СПб.: Дмитрий Буланин, 2011. С. 125-231.
- Геродот. История. М.: Ладомир, 1993. 599 с.
- Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / пер. с древне-греч. М. Л. Гаспарова. М.: Мысль, 1998. 572 с.
- Камю А. Миф о Сизифе: Эссе об абсурде. Миф о Сизифе. Бунтующий человек. Минск: Попурри, 2000. С. 13-142.
- Колмаков В. Б. Античный пессимизм // Вестник Воронежского университета. 2012. № 2. С.131-143.
- Кон И. С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. М., 1984. 335 с.
- Красильников Р. Л. Танатологические мотивы в художественной литературе. М.: Языки слав. культуры, 2015. 488 с.
- Лосев А. Ф. Вводные замечания. Платон // Сочинения: в 3 т. М.: Изд-во соц.-экон. лит., 1970. Т. 2. С. 5-9.
- Лукан. Фарсалия, или Поэма о гражданской войне. М.: Ладомир, 1993. 349 с.
- Лукиан. О кончине Перегрина // Соч.: в 2 т. СПб., Алетейя, 2001. Т. 2. С. 294-305.
- Лукреций Кар. О природе вещей. М.: Мир книги, 2010. 336 с.
- Павсаний. Описание Эллады: в 2 т. СПб.: «Алетейя, 1996. Т. 1. 394 с.
- Платон. Государство. Законы. М.: Мысль, 1998. 798 с.
- Платон. Федон. Соч.: в 3 т. М.: Мысль, 1970. Т. 2. С. 13-94.
- Ранович А. Б. Лукиан. Античные критики христианства. М.: ОГИЗ Гос. антирелигиозное изд-во, 1935. C. 1-22.
- Сенека Л. А. Письмо 69 // Нравственные письма к Луцилию. Суицидология: прошлое и настоящее. Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах. М.: Когито-Центр, 2001. С. 28-46.
- Тахо-Годи А. А. Комментарии. Платон. Федон // Соч.: в 3 т. М.: Изд-во соц.-экон. лит., 1970. Т. 2.С. 481-505.
- Трегубов Л., Вагин Ю. Эстетика самоубийства. Пермь: Капик, 1993. 268 с.
- Хоф А. ван. Женские самоубийства в античном мире: между вымыслами и фактами // Вестник древней истории. 1991. № 2. С. 18-43.
- Цицерон М. Т. Письма Марка Туллия к Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту. СПб.: Наука, 2008. 782 с.
- Цицерон М. Т. О презрении к смерти. Цицерон. Тускуланские беседы. М.: РИПОЛ классик 2018. Кн. I. С. 7-102.
- Allen D. C. Some observations on The Rape of Lucrece // Shakespeare Survey. 1962. № 15. P. 89-98.
- Alvarez A. Suicide: the philosophical issues. N. Y.: St. Martin's Press, 1980. 292 p.
- Bate J. Shakespeare and Ovid. Oxford: Clarendon Press, 2018. 292 p.
- Baldwin T.W. William Shakespere's Small Latine & Lesse Greeke. Urbana: University of Illinois Press, 1944. 774 p.
- Calderwood J. L. Shakespeare and the Denial of Death. Amherst: Univ. of Massachusets Press, 1987. 233 p.
- Livius T. Ab urbe condita / еd. by R. S. Conway, Ch. F. Walters. Oxford: Oxford UP, 1914. Book I. Ch. 57-59.
- McAlington T. English Renaissance Tragedy. Hong Kong: The MacMillan Press Ltd., 1988. 269 p.
- Miola R. S. Shakespeare's Rome. Cambridge UP, 1983.244 p.
- Muir K. The Sources of Shakespeare Plays. London: Methuen, 1961. 281 р.
- Narrative and Dramatic Sources of all Shakespeare's works / ed. by G. Bullough. London: Routledge and Kegan Paul, 1967-75. 8 Vols.
- Novotny F. The Posthumorous Life of Plato. The Hague: Martinus Nijhoff, 1977. 676 p.
- Nuttall A.D. Action at a Distance: Shakespeare and the Greeks. Cambridge UP, 2004. 269 p.
- Plutarch / Thomas North [translator], James Amyot [translator]. The Lives of the noble Grecians and Romanes, compared together by ... Plu-tarke of Ch^ronea. London, 1579. URL: https://www.bl.uk/collection-items/norths-translation-of-plutarchs-lives (дата обращения: 30.09.2019).
- Rolfe W. Shakespeare the boy. London: Chatto and Windus, 1900. 335 p.
- Shakespeare W. The Arden Shakespeare Complete Works. L.; Oxford; N. Y.; New Delhi, Sydney: Bloomsbury Arden Shakespeare, 2017. 1392 p.
- Shakespeare's world: Background reading in the English Renaissance. N. Y.: Continuum, A Frederic Ungar book, 1989. 288 p.
- Wilson F. P. Elizabethan and Jacobean. Oxford: Clarendon Press, 1948. 143 p.