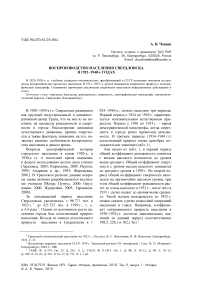Воспроизводство населения Свердловска в 1923-1940-х годах
Автор: Чащин Алексей Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В 1920-1930-х гг. глубокие социально-экономических преобразований в СССР негативно повлияли на процессы воспроизводства городского населения. В 1931-1933 гг. резкое повышение смертности привело к демографической катастрофе. Основными причинами увеличения смертности выступили инфекционные заболевания и голод.
Городское население, рождаемость, смертность, демографическая катастрофа, эпидемиологический переход, свердловск (екатеринбург)
Короткий адрес: https://sciup.org/14737193
IDR: 14737193 | УДК: 94(470.54-25).084
Текст краткого сообщения Воспроизводство населения Свердловска в 1923-1940-х годах
В 1920–1930-е гг. Свердловск развивался как крупный индустриальный и административный центр Урала, что не могло не повлиять на процессы рождаемости и смертности в городе. Рассмотрение динамики естественного движения, причин смертности, а также факторов, влиявших на это, позволяет выявить особенности воспроизводства населения в данное время.
Вопросы демографической истории городского населения в конце 1920-х, в 1930-е гг. в последнее время оказались в фокусе исследования целого ряда ученых [Араловец, 2003; Кириллова, 2005; Исупов, 1995; Андреева и др., 1993; Жиромская, 2001]. В Уральском регионе данные вопросы также активно разрабатываются местными учеными [Мазур, Пунтус, 2000; Оруд-жиева, 2000; Журавлёва, 2005; Тараканов, 2008].
За описываемый период население Свердловска увеличилось с 96 771 чел. в 1923 г. 1 до 425 533 чел. в 1939 г., т. е. в 4,4 раза 2. Одним из источников роста населения города был естественный прирост населения. Исходя из темпов естественного прироста населения в Свердловске в 1
924–1940 гг., можно выделить три периода. Первый период с 1924 по 1930 г. характеризуется положительным естественным приростом. Период с 1930 по 1933 г. – время демографической катастрофы, когда смертность в городе резко превысила рождаемость. В третьем периоде (1934–1940 гг.) естественный прирост вновь приобрел положительное значение (табл. 1).
Как видно из табл. 1, в первый период общий коэффициент рождаемости снизился с весьма высокого показателя до уровня выше среднего. Общий коэффициент смертности с уровня весьма высокого снижается до среднего уровня в 1929 г. Во второй период общий коэффициент смертности находился на чрезвычайно высоком уровне, при этом общий коэффициент рождаемости растет до очень высокого в 1932 г., после чего в 1933 г. резко падает до уровня выше среднего. Такой подъем рождаемости до 1932 г. можно связать с резко возросшей миграцией населения в город. Например, коэффициент миграционного прироста населения в 1930–1932 гг. достигал максимальных значений за данный период (соответственно 198,5, 228,1 и 162,1 ‰) 3.
Наибольшая убыль населения приходится на 1933 г. В 1934 г. можно зафиксировать превышение рождаемости над смертностью на 6 ‰. В период 1935 по 1939 г. идет достаточно резкий подъем рождаемости до высокого уровня и снижение смертности до среднего или высокого уровня. Значительный подъем общего коэффициента рождаемости в 1937 г. можно связать с компенсаторной рождаемостью после демографической катастрофы 1931–1933 гг., а также вступлением в репродуктивный возраст женщин, родившихся перед первой мировой войной [Исупов 2000. С. 103]. Стоит также упомянуть о мерах поощрения рождаемости во второй половине 1930-х гг., в частности, запрещении искусственного прерывания беременности специальным постановлением СНК СССР 1936 г. [Жиромская, 2001. С. 29].
Как видно из табл. 2, коэффициент младенческой смертности в целом повторял колебание коэффициента общей смертности.
При рассмотрении причин смертей можно выявить следующие тенденции (табл. 3). В 1931–1933 гг. количество смертей от инфекционных и паразитарных заболеваний по сравнению с 1929 г. возрастет практически втрое. Резкое увеличение можно зафиксировать в классе причин смертей от болезней органов дыхания – практически в 4 раза, органов пищеварения – в 2,5 раза, отдельных состояний, возникающих в перинатальный период – в 2,3 раза, от симптомов, признаков и неточно обозначенных состояний – примерно в 3 раза, несчастных случаев, отравлений и травм – в 4,7 раз, старческой дряхлости – в 6,5 раз. Как видно из табл. 3, показатели 1936 г. в целом возвращаются к уровню 1929 г.
Таблица 1
Воспроизводство городского населения Свердловска в 1924–1940 гг., ‰ *
|
Год |
Рождаемость |
Смертность |
Естественный прирост |
|
1924 |
42 |
22,7 |
19,3 |
|
1925 |
41,5 |
25,8 |
15,7 |
|
1926 |
38,1 |
22,8 |
15,3 |
|
1927 |
40 |
25,6 |
14,4 |
|
1928 |
34,5 |
19,4 |
15,1 |
|
1929 |
31,1 |
19 |
12,1 |
|
1930 |
27,4 |
22,2 |
5,2 |
|
1931 |
35 |
37,3 |
–2,3 |
|
1932 |
47,7 |
52,9 |
–5,2 |
|
1933 |
29 |
44,4 |
–15,4 |
|
1934 |
29 |
23 |
6 |
|
1935 |
31,3 |
17,3 |
14 |
|
1936 |
33,5 |
20,3 |
13,2 |
|
1937 |
46,7 |
21,6 |
25,1 |
|
1938 |
25,2 |
18,3 |
6,9 |
|
1939 |
37 |
20,9 |
16,1 |
|
1940 |
34 |
21,7 |
12,3 |
* Таблица составлена по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 23. Д. 26. Л. 3; Д. 70. Л. 54; Д. 86. Л. 83; Д. 134. Л. 61; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 18. Л. 60; Д. 53. Л. 3; ГАСО. Ф. Р-1812. Оп. 2. Д. 33. Л. 41; Д. 170. Л. 5; Д. 171. Л. 4; ГАСО. Ф. Р-1813. Оп. 1. Д. 98. Л. 3; Д. 99. Л. 4; Д. 100 Л. 5; Д. 101. Л. 3, 25; Д. 773. Л. 1; Уральское хозяйство в цифрах. Свердловск, 1926. С. 18–19; Там же, 1927. С. 28–29, 30–31; Там же, 1928. С. 42–43; Уральское хозяйство в цифрах. Социальная статистика. Свердловск. 1930. Вып. 1. С. 54.
Таблица 2
|
Год |
Коэффициент детской смертности |
Год |
Коэффициент детской смертности |
|
1925 |
253 |
1933 |
276,3 |
|
1926 |
230 |
1934 |
190,7 |
|
1927 |
237,6 |
1935 |
185,5 |
|
1928 |
175,5 |
1936 |
223,2 |
|
1929 |
205,1 |
1937 |
219 |
|
1930 |
220,4 |
1938 |
242,6 |
|
1931 |
321,6 |
1939 |
249 |
|
1932 |
355,5 |
1940 |
244,2 |
* Таблица составлена по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 23. Д. 26. Л. 3; Д. 70. Л. 54; Д. 86. Л. 83; Д. 134. Л. 61; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 18. Л. 60; Д. 53. Л. 3; ГАСО. Ф. Р-1812. Оп. 2. Д. 33. Л. 41; Д. 170. Л. 5; Д. 171. Л. 4; ГАСО. Ф. Р-1813. Оп. 1. Д. 98. Л. 3; Д. 99. Л. 4; Д. 100 Л. 5; Д. 101. Л. 3, 25; Д. 773. Л. 1; Уральское хозяйство в цифрах. Свердловск, 1926. С. 18–19; Там же, 1927. С. 28–29, 30–31; Там же, 1928. С. 42–43; Уральское хозяйство в цифрах. Социальная статистика. Свердловск, 1930. Вып. 1. С. 54.
Таблица 3
|
Классификация причин смерти |
1929 |
1931 |
1932 |
1933 |
1936 |
|
Инфекционные и паразитические заболевания |
27,4 |
30,1 |
26,8 |
25,9 |
38,6 |
|
Новообразования |
3,3 |
2,1 |
1,2 |
1,4 |
3,1 |
|
Болезни эндокринной системы, расстройство питания, нарушения обмена веществ и иммунитета |
0,08 |
0,3 |
0,7 |
2,2 |
0,2 |
|
Болезни крови и кровообращения |
0,6 |
0,07 |
0,4 |
0,1 |
0,03 |
|
Болезни нервной системы и органов чувств |
7 |
3,4 |
3,7 |
2,8 |
4,2 |
|
Болезни системы кровообращения |
5,6 |
4,2 |
5,4 |
9 |
4,5 |
|
Болезни органов дыхания |
16,3 |
19,5 |
22,8 |
19,7 |
16,4 |
|
Болезни органов пищеварения |
15,2 |
15,8 |
13,6 |
12,3 |
14,1 |
|
Болезни мочеполовой системы |
1,3 |
0,8 |
1,2 |
1,4 |
0,7 |
|
Осложнения беременности, родов и послеродового периода |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0,4 |
|
Болезни кожи и подкожной клетчатки |
0,5 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,02 |
|
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани |
0,1 |
0,05 |
0,05 |
0,07 |
- |
|
Отдельные состояния, возникающие в перинатальный период |
5,4 |
4,5 |
4,5 |
3 |
5,8 |
|
Симптомы, признаки и неточно обозначенные состояния |
6,1 |
10,1 |
9,9 |
8,9 |
4,5 |
|
Несчастные случаи, отравления и травмы |
4 |
3,1 |
3,2 |
3,4 |
4 |
|
Насильственная смерть |
3,2 |
2,1 |
1,5 |
2,1 |
2,1 |
|
Старческая дряхлость |
2,1 |
1,5 |
3,7 |
5,9 |
1,4 |
|
Прочие |
0,8 |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
0,3 |
|
Итого |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
* Таблица составлена по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 23. Д. 126. Л. 21 об. – 22 об.; Д. 166. Л. 71 – 71 об.; Д. 203.
Л. 78 – 78 об.; Д. 218. Л. 19 – 19 об.; ГАСО. Ф. Р-1813. Оп. 1. Д. 99. Л. 30 – 30 об.
Коэффициент младенческой смертности в Свердловске в 1927–1940 гг., ‰ *
*
Распределение умерших по причинам смерти в Свердловске, % *
Среди причин, которые привели к резкому росту инфекционных болезней, а также избыточной смертности в 1931–1933 гг., можно выделить несколько факторов. Прежде всего, стоит указать на нехватку продовольствия, показателем чего стал рост практически в два раза числа смертей от энтерита и колита. Поэтому в одном из документов того периода говорилось: «Учет истинного положения с развитием цинги в текущем году 4 затруднен рядом обстоятельств. Проявление цинги скрадывается общими явлениями истощения, безбелко-выми оттеками, желудочно-кишечными расстройствами и другими болезненными состояниями в результате массового нарушения питания…» 5.
Если для возрастной группы до 2 лет большое количество смертей от этой причины является обычным явлением на тот период, то для более старшего населения рост числа умерших подтверждает существование голода среди городского населения. Общее количество умерших по этой причине в возрасте старше 2 лет в 1931 г. – 1 случай на тысячу человек (243 чел.), в 1932 г. – уже 1,2 (341 чел.), в 1933 г. – 1,7 (566 чел.) 6.
Отдельной графой в таблицах умерших по причинам смертей указывается причина «умерших от неполноценного питания (включая рахит)». От этой причины пришлось в 1931 г. 0,04 случая на тысячу человек (17 чел.), в 1932 г. – уже 0,3 (97 чел.), в 1933 г. – 0,9 (303 чел.). Как отмечалось выше, одним из проявлений голода была цинга. Например, в сообщениях Уральского областного отдела здравоохранения отмечалось количество заболевших цингой в июле 1932 г.: «В Свердловске в мае имелось 1 255 заболевших, в июне 1 227, за текущий июль (1 декада) 319» 7. Показательно высказывание одного из свердловских рабочих на открытом партсобрании 9 июня 1933 г., сохранившееся в отчете ОГПУ: «Мы, вот, рабочие построили целый ряд новых заводов и кушаем похлебку-водичку, тогда как инженеры кушают мясо» 8. Другой рабочий добавил к этому, что «пятилетка строится с поджатыми животами» 9. При наборе рабочего персонала на Уралмашзавод инженер против своей фамилии написал: «У меня нет денег, ни хлеба, могу быть, но вряд ли много работать» 10. Недоедание и голод ослабляли организм, что способствовало росту других болезней.
Рост числа умерших от сыпного и брюшного тифа, оспы объясняется эпидемиями этих болезней в Уральской области. Фактором, способствовавшим росту числа инфекционных заболеваний, в том числе сыпного тифа, являлось антисанитарное состояние жилых помещений, что было во многом обусловлено интенсивной миграцией в город. Например, через город проходили эшелоны с раскулаченными крестьянами, которые, по мнению Уральского областного отдела здравоохранения, были первопричиной распространения сыпного тифа 11.
Резкое увеличение миграции населения в город привело к острой нехватки жилой площади, что стало причиной резкого ухудшения жилищных условий, чрезвычайно высокой скученности 12. На совещании в горкоме ВКП(б) 23 декабря 1933 г. констатировалось: «По Уралмашинострою бараки перегружены, рабочих размещать негде. <…> Такое же положение и на ВИЗе 13, там бараки не отапливаются, дров нет, царит страшная грязь» 14. В другом информационном сообщении говорилось: «Нет в бараках табуреток и столов, и также недостаточно тумбочек. <…> Прачечной нет, стирают в комнатах. Рамы не вставлены и не застеклены. В одной из комнат живет 15 человек, где дети спят на полу и ввиду этого у работницы Коноваловой в настоящее время ребенок болен, под больным ребенком завелись черви, от него идет сильный запах. <…> Форточек, баков для кипячения воды нет» 15. При описании другого городского барака указывалось на полную антисанитарию, грязь, скученность. Рабочие при этом спали на голых досках, и в целом помещение производило впечатление конюшни 16.
О нехватке жилой площади информация печаталась и в «Уральском рабочем»: «Расположенные на территории завода 17 общежития и бараки донельзя переполнены рабочими. Средняя жилплощадь на человека в отдельных бараках не превышает 2–2,5 кв. м. Такая скученность в бараках и общежитиях является основной причиной их крайне антисанитарного состояния. Все бараки переполнены клопами» 18. На совещании сектора кадров при горкоме ВКП(б) в декабре 1933 г. отмечалось: «Так, что нас морозы застали в врасплох – факт, что было до –36 °С и бараки не отапливались, это тоже факт» 19.
Таким образом, в 1920–1930-е гг. как рождаемость, так и смертность продолжали оставаться на весьма высоком уровне. Демографическая катастрофа в Свердловске началась раньше, чем в ряде других городов, что можно всецело связать с началом активного промышленного строительства в городе. При этом показатели смертности были выше, чем в среднем по городским поселениям Среднего Урала, тогда как показатели рождаемости ниже. Способствовали росту смертности недоедание и голод, которые были одной из основных причин роста болезней среди городского населения. В целом, преобладали болезни экзогенного характера, что говорит о том, что эпидемиологический переход в это время еще не был пройден [Демографическая…, 2006. С. 257].