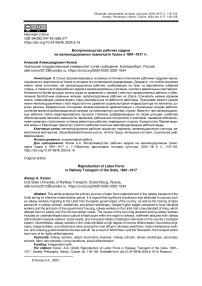Воспроизводство рабочих кадров на железнодорожном транспорте Урала в 1891-1917 гг
Автор: Конов А.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы основные источники пополнения рабочими кадрами железнодорожного транспорта на Урале в условиях его интенсивной модернизации. Доказано, что особое значение имели такие источники, как железнодорожные рабочие, прибывавшие на Урал из европейских губерний страны, а также подготовка рабочих кадров в железнодорожных училищах, школах и ремесленных мастерских. Несмотря на более высокую оплату труда по сравнению с таковой у местных промышленных рабочих и обеспечение бесплатным казенным жильем, железнодорожные рабочие на Урале отличались низким уровнем жизни, позволявшим удовлетворять лишь минимальные потребности работника. Причинами низкого уровня жизни железнодорожников стали недостаточно развитая социокультурная инфраструктура на железных дорогах региона, безразличное отношение железнодорожной администрации к социальным нуждам рабочих, усиление военной мобилизационной нагрузки на транспортную систему страны. Вместе с тем железнодорожные рабочие Урала характеризовались высокой степенью дифференциации по своим доходам: наиболее обеспеченными являлись машинисты паровозов, рабочие-мостостроители и электрики, наименее обеспеченными оказались стрелочники, путевые ремонтные рабочие, переездные сторожа. В результате Первой мировой войны и Революции транспорт утратил наиболее опытные квалифицированные рабочие кадры.
Железнодорожные рабочие, машинист паровоза, железнодорожные училища, ремесленные мастерские, общеобразовательные школы, оплата труда, жилищные условия, социальная дифференциация
Короткий адрес: https://sciup.org/149146441
IDR: 149146441 | УДК: 94(282.247.42):656.071 | DOI: 10.24158/fik.2024.8.16
Текст научной статьи Воспроизводство рабочих кадров на железнодорожном транспорте Урала в 1891-1917 гг
Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург, Россия, ,
Воспроизводство рабочей силы имеет исключительно важное значение в условиях интенсивного индустриального развития экономики, реализации масштабных промышленных и транспортных проектов, решения важных военно-стратегических задач. Особенно большое количество трудовых ресурсов было задействовано на промышленных и транспортных новостройках Российской империи на рубеже XIX–XX вв. – в период перехода страны от аграрной стадии развития к индустриальной. Большая потребность в трудовых ресурсах была связана с огромными пространствами страны, отдаленностью новых промышленных районов от центра, наличием большого удельного веса тяжелого ручного труда, а также высокой текучестью рабочей силы на производстве.
На новом этапе модернизации потребность в квалифицированной рабочей силе увеличивается в связи с попытками поиска направлений прорывного экономического развития страны, реализации масштабных проектов новой транспортной инфраструктуры. Поэтому так важно учесть исторический опыт Российского государства по воспроизводству рабочей силы и ее эффективному использованию для решения важнейших промышленных и транспортных задач, обеспечивавших экономическую независимость и безопасность государства. Обращение к историческому опыту кадровой политики позволит избежать многих деструктивных факторов, заблокировавших прогрессивные процессы в экономическом развитии страны в начале XX в. К числу таких факторов историки традиционно относят войны, требовавшие мобилизации на фронт миллионов рабочих и крестьян, отсутствие продуманной гуманной политики по отношению к рабочим, порожденное бюрократизмом бездушное и небрежное отношение к социальным нуждам работника.
Проблеме воспроизводства рабочей силы на железнодорожном транспорте Российской империи посвящена обширная литература, затрагивающая самые разные аспекты культурно-бытового положения и профессиональной деятельности рабочих. Так, сибирские историки А.А. Ев-стратчик и О.В. Коновалова в статьях раскрыли малоизвестные подробности восстания железнодорожных рабочих Красноярского транспортного узла в январе 1905 г. Причинами восстания рабочих, как установили исследователи, стали тяжелое материальное положение и неудовлетворительные условия труда (Евстратчик, Коновалова, 2023: 168). Отдельные стороны жизни железнодорожных рабочих Белоруссии представлены в работах белорусского историка А.И. Му-рашко. Изучая условия жизни рабочих по документам жандармских органов на железных дорогах, автор характеризует их как каторжные и бедственные (Мурашко, 2008: 106). Большой интересный массив информации об оплате труда железнодорожных рабочих Западного Забайкалья содержится в работах бурятских историков И.Б. Батуевой и В.В. Бабакова (2020). Историки из Ярославля Н.П. Рязанцев и С.Д. Шокин впервые отметили важную черту железнодорожных рабочих в начале XX в. – высокую степень их дифференциации по доходам. По мнению авторов, благоустроенное жилье на железной дороге получали наиболее квалифицированные рабочие в малонаселенных и отдаленных местах вдали от крупных городов. В крупных городах этот принцип не соблюдался (Рязанцев, Шокин, 2018).
Большой интерес к истории железнодорожного транспорта Российской империи проявляют зарубежные исследователи. Помимо отдельных научных монографий (Шенк, 2016: 584), в зарубежных периодических изданиях опубликованы интересные материалы о причинах травматизма на железных дорогах России (Socio-demographic factors…, 2022) и динамике повышения заработной платы российских рабочих на Китайско-Восточной железной дороге (Kovalchuk, Yahimovich, 2019). Таким образом, в отечественной и зарубежной историографии отсутствуют работы по истории железнодорожных рабочих Урала, остаются непроанализированными источники пополнения рабочими кадрами железнодорожного транспорта региона. В существующих публикациях раскрыты лишь отдельные стороны жизни и профессиональной деятельности железнодорожных рабочих европейских губерний России и отчасти Сибири, фрагментарно показаны уровень оплаты труда рабочих и их обеспеченность жильем.
Цель написания статьи – выявить основные источники пополнения железнодорожного транспорта Урала рабочими кадрами в условиях экстенсивного расширения железнодорожной сети и определить уровень социальной защищенности рабочего по оплате труда, обеспечению благоустроенным жильем, оптимальными условиями труда.
Новизна исследования состоит в том, что в нем впервые представлена динамика повышения материального и культурного уровня жизни железнодорожных рабочих Урала в условиях как экономического подъема в стране, выразившегося в интенсивном железнодорожном строительстве, так и социально-экономического кризиса, вызванного войнами и революциями. В статье впервые раскрыт процесс нарастания значимости тех или иных форм кадрового обеспечения железнодорожного транспорта Урала, начиная от наиболее простых и привычных для Российской империи (вольного найма рабочей силы, перераспределения квалифицированных рабочих с железных дорог европейской части страны) до наиболее сложных форм (подготовки рабочих кадров в специализированных учебных заведениях и на производственных курсах, воспроизводства в семьях самих рабочих).
На рубеже XIX–XX вв. железнодорожная сеть Урала имела тенденцию к интенсивному приросту, что было связано со строительством Великого Сибирского пути и выполнением заданий по созданию новых линий для военного ведомства. 21 февраля 1891 г. началось возведение участка от Миасса до Челябинска, которое было завершено 25 октября 1892 г. В июле 1892 г. приступили к прокладке железнодорожного пути на промежутке Челябинск – Курган. Строительство всего участка от Челябинска до Омска было завершено 25 октября 1895 г. В октябре 1896 г. был подписан акт сдачи в эксплуатацию всего участка от Челябинска до Омска. В этом же году Екатеринбург получил соединение с Челябинском (Садов, 1996: 4–5).
Вместе с развитием железных дорог быстро возрастала и численность рабочих в данной сфере: с 1865 по 1890 г. их количество на железных дорогах Российской империи возросло в 8 раз – с 32 тыс. до 253 тыс. (Вольфсон и др., 1939: 31). К началу строительства Транссиба Сибирь и Дальний Восток были малонаселенными. В стоверстной полосе вдоль Западно-Сибирского участка магистрали (от Челябинска до Оби) мужчин в рабочем возрасте было 60 человек на одну версту сооружаемого пути, Среднесибирского (от Оби до Красноярска) – 35–40, от Красноярска до Иркутска – 25, Забайкальского (от Байкала до Сретенска) – 20, Уссурийского (от Хабаровска до Владивостока) – 10–15 человек. Обычная норма для равнинных железных дорог составляла 72 человека на версту. В сравнении с Европейской Россией на территории вдоль Транссиба работоспособных мужчин проживало почти в 2,5 раза меньше. Поэтому от Урала до Байкала местная рабочая сила поставлялась из селений, расположенных в стоверстной полосе по обе стороны от строящейся дороги (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали…, 2005: 106).
Общее число работающих от Челябинска до Омска не превышало 6 000 человек, из них: мастеровых из Европейской России – 1 800, воинских чинов – 400, ссыльнокаторжных – 300, местных – 3 800 человек. На Южном Урале местная рабочая сила составляла почти половину всех строительных рабочих, доходя в отдельные годы на Западно-Сибирской дороге до 84,6 %, Среднесибирской – 83,3 %. Основная масса железнодорожных рабочих состояла из беднейших групп местного населения. Обеспеченные хозяйства выделяли незначительную долю лиц, занимавшихся на магистрали мелкими поставками фуража, продовольствия и подрядами на подвоз строительных материалов, инструментов и рабочих-строителей (Садов, 1996: 6).
На железные дороги шла также та часть местного населения, которая с постройкой этих дорог лишалась доходов от своих промыслов. Это были люди, занимавшиеся извозным промыслом и содержанием постоялых дворов, жители некоторых селений на реках, занимавшиеся сплавом. Одним из источников формирования постоянных кадров были бывшие строители железных дорог. Некоторые из них с пуском железнодорожных предприятий переходили в ряды эксплуатационников. На железные дороги Урала шли работать также бывшие низшие чины армии. Их зачисляли на работу в первую очередь (Мильман, 1961: 218, 221).
Значительную роль в строительстве магистрали сыграли рабочие из Европейской России, издавна жившие только на заработки, полученные на железнодорожных работах. В отдельные годы число российских рабочих на Западно-Сибирской дороге было от 3,5 до 15,0 тыс. человек, на Среднесибирской – от 3 до 11 тыс. Каждый подрядчик старался набрать себе проверенных, квалифицированных рабочих и даже вез их с собой в Сибирь. Иностранцы чаще всего исполняли обязанности десятников, рядчиков, минеров, взрывников, каменщиков. Вместе с отдалением фронта строительства магистрали на восток сокращалась доля российских рабочих. Они составили на Западно-Сибирском участке в среднем 40,0 % всех рабочих, Среднесибирском – 34,3, Кругобайкальском – 31,7, Забайкальском – 25,6, Уссурийском – 6,7 %. Российские рабочие были первыми среди всех строителей по производительности труда, квалификации, объему проведенных работ, организованности и сознательности. Подавляющую часть работ на Великом сибирском пути выполнили именно они (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали…, 2005: 109).
Укомплектование кадрами железнодорожных мастерских и депо шло в основном за счет привлечения квалифицированных рабочих из горнозаводских предприятий Урала, где в пореформенное время был большой излишек рабочих рук и занятые в производстве вынуждены были довольствоваться весьма мизерными заработками. Рабочие горных предприятий, перебивавшиеся непостоянными заработками, охотно переходили на железнодорожный транспорт на штатную, постоянную работу (Мильман, 1961: 216).
Важным источником пополнения рабочими кадрами железнодорожного транспорта Южного Урала стали крестьяне-переселенцы из Европейской России, связанные с железнодорожным строительством еще у себя на родине. В конце 90-х гг. XIX в. крестьянам-переселенцам бесплатно раздавали казенную землю, вводили удешевленный тариф передвижения по железной дороге. В некоторых случаях они пользовались денежными ссудами казны. Многие из них оставались работать на железных дорогах Урала и одновременно упорным тяжелым трудом начинали осваивать богатый край. Эти крестьяне работали различного рода сторожами, стрелочниками, кондукторами (Садов, 1996: 5).
Значимым источником пополнения рабочим персоналом железнодорожного транспорта Урала стали технические железнодорожные училища. К началу 1895 г. в ведении Министерства путей сообщения состояло 30 технических железнодорожных училищ, общее число учеников в которых составляло на этот год 2 193 человека. В связи со строительством Великого Сибирского пути в 1895–1905 гг. было открыто еще 11 новых технических железнодорожных училищ, в учебных программах появились новые дисциплины – строительное дело и электротехника. Таким образом, к началу 1905 г. число железнодорожных училищ составило 41 с 3 584 учащимися1.
В 1881 г. в Перми было открыто техническое железнодорожное училище, которое готовило дорожных мастеров, машинистов паровозов, их помощников, слесарей, кузнецов. В это училище принимались преимущественно дети железнодорожных рабочих, служащих в возрасте 14–17 лет, имевшие образование в объеме двухклассного сельского или городского училища либо церковноприходской школы. После трехлетнего обучения учащиеся получали только справку об окончании училища, а аттестат им вручался после двухлетней успешной практической работы на прямом производстве. Рабочие таких профессий, как машинисты паровозов и их помощники, младшие и старшие кондукторы, смазчики, стрелочники, проходили обязательное медицинское освидетельствование и направлялись на экзамен к начальнику тяги и движения. Кроме того, при управлениях железных дорог открывались телеграфные школы (Мильман, 1961: 217).
При наборе учеников как в цеха дороги, так и в учебные заведения предпочтение отдавалось детям железнодорожников. Число желающих поступить в технические железнодорожные училища с каждым годом увеличивалось, между тем доля детей железнодорожников в составе учащихся технических училищ постоянно снижалась. Такой тренд был связан с непосильными расходами для железнодорожников, проживавших на линейных участках, по содержанию детей на частных квартирах. Поэтому Министерство путей сообщения принимало меры к открытию новых и расширению существующих при технических железнодорожных училищах общежитий, в которых ученики за невысокую плату (в среднем от 10 до 12 р. в месяц) пользовались помещением и содержанием. В 1895 г. общежития существовали лишь при 14 училищах из 30 (46,6 %), в 1905 г. из 41 училища общежития имелись при 32 (78,0 %). В 1897 г. был учрежден особый благотворительный капитал имени императора Александра III (свыше 100 тыс. р.), который образовался от пожертвований собранных по ведомству путей сообщения. Проценты с этого капитала были предназначены для выдачи стипендий учащимся в технических железнодорожных училищах из числа детей железнодорожных служащих или служивших на железных дорогах, преимущественно в виде пособий для уплаты за помещение и содержание их в общежитиях2.
Большую роль в подготовке рабочих кадров для железных дорог Урала играли общеобразовательные школы, предназначенные для обучения детей железнодорожников. Они представляли собой двух- и одноклассные сельские и городские училища, а также двух- и одноклассные церковно-приходские училища. Все они содержались на средства железных дорог. К 1895 г. число общеобразовательных железнодорожных училищ составляло 142 с 10 750 учащимися3.
В железнодорожных мастерских и основных железнодорожных депо в качестве ремесленных учеников и подручных мастеров работали значительное число подростков, из которых обыкновенно набирались мастеровые для различных цехов. Обучение подростков в железнодорожных мастерских было организовано на крайне низком уровне, они могли усвоить в них лишь практические приемы работы без всякого теоретического обучения. В 1902 г. Министерством путей сообщения были учреждены курсы ремесленных учеников при железнодорожных мастерских и основных локомотивных депо. На курсы принимались грамотные ученики от 14 до 18 лет, учебный курс продолжался 2 года, в ходе которого учащиеся получали специальные познания в сфере различных производств. Курсы содержались на средства железных дорог4.
Чтобы удержать кадры на Урале и в Сибири, необходимо было срочно принимать меры по обеспечению их жилыми помещениями. В 1895 г. Комитет Сибирской железной дороги разрешил отводить из свободных казенных земель вблизи станций железной дороги особые участки под заселение на них железнодорожных служащих и рабочих за плату. Такие поселки возникли при станциях Петропавловск и Курган Сибирской железной дороги, но развивались они медленно из- за недостатка у железнодорожных рабочих средств для строительства. Обычно такой поселок образовывался в полосе отчуждения дороги из 800 дворов деревянной постройки. В поселке проживал в основном обслуживающий персонал дороги. В целях облегчения возведения построек рабочим и служащим могли выдавать ссуды деньгами или строительным материалом на 18 лет под 4 % в год. Для ограждения устраиваемых с помощью казны железнодорожных поселков от посторонних элементов постройки, возводимые в них, не могли продаваться другим лицам, кроме служащих того же участка дороги (Хобта, 2021: 70–71).
Основной целью жилищного строительства на железных дорогах Урала являлось предоставление рабочим дешевых и удобных помещений для предотвращения усиленного перехода с железных дорог Урала на другие линии вследствие исключительной дороговизны жизни на Урале. Жилье предоставлялось прежде всего на линии тем работникам, должности которых были непосредственно связаны с движением поездов, а также администрации. В службе тяги право на квартиру от управления дороги получали начальники депо, машинисты водокачки, в службе движения – начальники станций, сторожа-стрелочники, составители поездов, в службе пути – дорожные мастера, старшие и ремонтные рабочие пути, переездные сторожа. Вместе с предоставлением постоянной квартиры в помещениях железной дороги работники бесплатно получали дрова и материалы для освещения помещения по установленным нормам. Остальные рабочие, занимавшие квартиры в зданиях дороги временно в виде особой льготы, а также рабочие, получавшие квартирное денежное содержание, не имели права на бесплатный отпуск дров и осветительных материалов1.
В 1900 г. на Сибирской железной дороге работали 20 115 человек, из них квартиры от дороги получили 9 030 человек (45 %). В 1901 г. общая численность рабочих и служащих увеличилась до 23 925 человек, из которых 9 515 (40 %) жили в казенных квартирах. Еще 15 % рабочих и служащих имели право на казенные квартиры, но не пользовались ими за их отсутствием (Хобта, 2021: 291).
Удаленность станций от населенных мест заставляла железнодорожных рабочих строить частное жилье не только в полосе отчуждения, но и на крестьянских, казенных и городских землях, захватывая участки самовольно и возводя жилища временного типа: бараки и землянки. В них беднейшие рабочие и служащие ютились в антисанитарных условиях. Построить свой дом еще могли позволить себе члены паровозных бригад, откладывая большую часть зарплаты и отказывая себе во всем. Большая семья, наемная квартира – обычное явление того времени. Строительные рабочие жили в бараках, легких древесных шалашах, полотняных палатках. Более пригодным жильем считалась крестьянская изба, где высокооплачиваемым рабочим удавалось снимать угол по высокой цене. Многие железнодорожные рабочие с семьями жили в вагонах (Садов, 1996: 17).
С началом Русско-японской войны министр путей сообщения М.И. Хилков просил военное ведомство в случае осуществления мобилизации в пределах Сибири оставить на железной дороге рабочих, ибо отстранение их от исполняемых обязанностей могло бы неблагоприятно отразиться на всей работе железных дорог в Сибири. Нужны были стимулы, чтобы поддерживать напряженную работу. В докладе 21 января 1904 г. М.И. Хилков просил разрешения увеличить на время войны содержание рабочих и служащих Сибирской железной дороги от Челябинска до Омска. 22 марта 1904 г. Самаро-Златоустовская и Сибирская железные дороги были объявлены на военном положении, которое предусматривало постоянную поддержку полного и безостановочного движения поездов. Начались особая регистрация рабочих и интенсивная переписка строительного руководства с военными, у всех искусственных сооружений были поставлены посты (Хобта, 2021: 321).
Реконструкция Сибирской железной дороги, охрана объектов, строительство дополнительных разъездов требовали большого количества рабочей силы и жилых помещений. Для пополнения личного состава пришлось командировать с дорог европейской сети в течение 1904 г. более 11 тыс. агентов. На Сибирскую железную дорогу были командированы 704 машиниста, 724 помощника машиниста, 679 кочегаров, смазчиков, слесарей, 430 агентов движения, 124 телеграфиста, 4 ревизора движения, 65 дорожных мастеров и артельных старост. Всего на участок от Челябинска до Новосибирска были командированы 2 730 человек. Так как все паровозы посылались с бригадами, одних машинистов и помощников машинистов командировано около 3 тыс., что существенно сказалось на работе сети дорог европейской части страны ввиду отсутствия замены (Хобта, 2021: 418).
В 1904–1905 гг. политика в области оплаты труда в Министерстве путей сообщения строилась по трем принципам: во-первых, учитывалась дороговизна жизни в городах и крупных центрах; во-вторых, стаж работы на железной дороге (не менее 2 лет); в-третьих, необходимость достижения соответствия между размером заработка рабочих мастерских и депо и денежного содержания служащих, занятых физическим трудом. Заработная плата рабочих ремонтных цехов не превышала 30 р., чернорабочие, ученики, женщины и другие категории рабочих получали 12 р. в месяц.
При этом номинальная заработная плата значительно снижалась штрафами и взысканиями. Машинист чувствовал себя увереннее – его заработная плата составляла не менее 60 р., помощник получал 40 и более, а кочегар, как и слесарь, – 30 р. (Садов, 1996: 18). Наивысшую зарплату имели рабочие-кессонщики и плотники (3 р. в день), машинисты (5), старшие кессонные мастера и электротехники (10 р.). Сдельные заработки железнодорожных рабочих из европейских губерний были выше, чем у местных наемных рабочих, что объяснялось разницей в производительности труда. Министерство путей сообщения, управления железных дорог принимали различные меры для улучшения положения железнодорожников: вводились временные надбавки, денежные пособия по болезни, на полосах отчуждения разрешалось косить сено, заводить небольшие огороды, открывались учебные заведения, библиотеки (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали…, 2005: 116). Приказом № 8 от 23 декабря 1904 г. на Богословско-Сосьвинской дороге заработная плата поездных рабочих стала подразделяться на постоянное жалование и поверстную премию, что незначительно, но все-таки повысило оклады железнодорожным рабочим. Так, машинист паровоза к окладу в 80 р. мог получить поверстную премию в 20 р., помощник машиниста к окладу в 40 р. мог получить надбавку в 12 р. 50 коп., главный кондуктор к окладу в 25 р. получал поверстную премию в 7 р., кочегар и смазчик к 20 р. получали одинаковую премию в 6 р.1
Особенно низкой была оплата труда строительных рабочих на Урале, где к ним сложилось отношение как к временным, преходящим работникам, подверженным быстрой замене и текучести. Главные начальники строительных участков, дистанций пути могли увольнять временных рабочих в случае отсутствия надобности в их труде, при этом им отказывали в выдаче пособий и бесплатных проездных билетов. Увольнять также могли рабочих по ремонту пути, службам тяги и движения, временных строительных рабочих, денежный оклад которых не превышал 40 р. в месяц. На эти же низкие оклады начальники участков могли собственным распоряжением принимать новых работников взамен уволенных. Необходимо было провести лишь медицинское освидетельствование вновь принимаемых рабочих и испытательный экзамен для работников, связанных с безопасностью движения2.
С началом Первой мировой войны положение на железных дорогах Урала и Сибири заметно ухудшилось. Экономика страны была напряжена до предела, мобилизация подрывала производительные силы. В армию было призвано свыше 15 млн человек. В период войны значительные изменения произошли в составе железнодорожников. Опытные кадры железнодорожных рабочих были мобилизованы в армию или переведены в прифронтовые районы. Им на смену пришли молодые рабочие. В связи с тем что железные дороги находились на военном положении, администрация могла сдать в солдаты любого рабочего, заподозренного в неблагонадежности (Залужная, 1980: 52).
Вместе с тем появились новые должности рабочих и служащих, связанные с контролем и поддержкой перевозочного процесса. В распоряжении начальника службы движения появились три агента: ревизор и два контролера движения. Ревизор движения вел в управлении дороги полный учет перевозок за каждые сутки и наблюдал за срочностью маневровых работ в крупных железнодорожных узлах и угольных шахтах. Контролеры движения осуществляли частые поездки по линии в целях наблюдения за своевременным движением поездов, своевременным завершением маневров на станциях и рудниках, обеспечивали эффективную работу линейных предприятий. Обо всех замеченных задержках в движении поездов контролеры немедленно доносили начальнику службы движения3. Была усилена борьба с чрезвычайными происшествиями на железных дорогах. В 1914 г. для расследования аварий и крушений поездов созданы две комиссии: комиссия первой категории в составе начальников служб пути, тяги и движения, действовавшая под председательством начальника службы пути, расследовала все происшествия с пассажирскими и товарными поездами, которые привели к остановке движения других поездов; комиссия второй категории в составе контролера движения, старшего дорожного мастера расследовала все остальные происшествия с товарными поездами4.
Увеличение объемов военных перевозок, недостаток паровозов и вагонов, отсутствие опытных рабочих вели к частым нарушениям графиков движения поездов. Железнодорожный транспорт Урала не справлялся с переброской войск и воинских грузов, которые скапливались на станциях. Бедственное положение трудящихся усугублялось военными налогами и инфляцией, которые резко снижали их жизненный уровень. В отличие от размеров оплаты труда фабрично-заводских рабочих зарплата железнодорожников во время войны оставалась почти неизменной, хотя цены на продукты питания возросли в 5–7 раз. Временное правительство пошло на уступки, согласившись на незначительное повышение заработной платы железнодорожникам. Им были обещаны льготы по снабжению продовольствием (отпуск с интендантских складов), что не имело под собой никакой реальной основы, так как даже снабжение армии было поставлено крайне неудовлетворительно (Залужная, 1980: 65). Опираясь на профсоюзные организации и советы, транспортники добивались установления восьмичасового рабочего дня, повышения заработной платы, введения оплаты за сверхурочные работы и двойной – за работу в праздничные дни.
Представленные в статье материалы позволяют сделать ряд важных выводов и заключений.
Основными источниками пополнения железнодорожного транспорта Урала рабочими кадрами стали рабочие, прибывавшие из центральных губерний России и крестьяне-переселенцы в основном из европейской части страны. Рабочая сила на Урал была привлечена в результате строительства Великого Сибирского пути, проходившего по направлению от Челябинска до Омска, а также в связи с завершением строительства в 1892 г. Самаро-Златоустовской железной дороги. Приток дешевой рабочей силы на Урал в начале XX в. был связан с реализацией столыпинской аграрной реформы и нехваткой свободных земель в Сибири для крестьян-переселенцев.
Уровень жизни большинства железнодорожных рабочих на Урале можно охарактеризовать как весьма низкий, удовлетворявший лишь минимальным потребностям жизнеобеспечения человека. Основными причинами этого стали недостаточное развитие социокультурной инфраструктуры на Урале, непродуманная социальная политика местных властей и недооценка социальных нужд рабочих со стороны администрации железной дороги. Уровень жизни рабочих на железных дорогах понижали длительные и изнурительные войны. Тем не менее можно отметить высокую степень дифференциации железнодорожных рабочих по оплате труда и обеспеченности благоустроенным жильем. Наиболее обеспеченными среди рабочих являлись паровозные машинисты и их помощники, наименее обеспеченными оказались стрелочники, путевые ремонтные рабочие, путевые и переездные сторожа.
В первой четверти XX в. резервы рабочей силы на железнодорожном транспорте Урала оказались истощены военными мобилизациями, снижением жизненного уровня населения в стране, увеличением военных налогов. Интенсивные воинские перевозки сломали сложившийся рабочий ритм перевозочного процесса, вызвали серьезные перебои в грузовых и пассажирских перевозках, что стало одной из важных причин революционного кризиса в 1917 г.
Список литературы Воспроизводство рабочих кадров на железнодорожном транспорте Урала в 1891-1917 гг
- Батуева И.Б., Бабаков В.В. Рабочие Западного Забайкалья накануне Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. // Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры. 2020. № 1 (13). С. 72–78. https://doi.org/10.31443/2541-8874-2020-1-13-72-78.
- Вольфсон Л., Корнеев А., Шильников Н. Развитие железных дорог СССР. М., 1939. 179 с.
- Евстратчик А.А., Коновалова О.В. О стачке рабочих Красноярских главных железнодорожных мастерских и паровозного депо 17 января 1905 г. // Социально-экономический и гуманитарный журнал. 2023. № 3. С. 165–176. https://doi.org/10.36718/2500-1825-2023-3-165-176.
- Залужная Д.В. Транссибирская магистраль: ее прошлое и настоящее. М., 1980. 287 с.
- Мильман Э.М. Формирование кадров железнодорожного пролетариата Урала во второй половине XIX в. // Из истории рабочего класса Урала: сб. ст. / науч. ред. проф. Ф.С. Горовой. Пермь, 1961. С. 215–222.
- Мурашко А.И. Деятельность подразделений жандармов по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на железных дорогах Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. // Социально-экономические и правовые исследования. 2008. № 2. С. 104–121.
- Рязанцев Н.П., Шокин С.Д. Социальное положение рабочих-железнодорожников на рубеже XIX–XX вв. // История и перспективы развития транспорта на севере России. 2018. № 1. С. 26–31.
- Садов В.Е. Огонь человеческий. К 100-летию локомотивного депо Курган. Курган, 1996. 176 с.
- Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали – мост между прошлым и будущим России / под общ. ред. В.Н. Тарасовой, В.С. Наговицына. М., 2005. 348 с.
- Хобта А.В. Михаил Иванович Хилков и Сибирская железная дорога. М., 2021. 511 с.
- Шенк Ф. Поезд в современность. Мобильность и социальное пространство России в век железных дорог. М., 2016. 584 с.
- Kovalchuk M.A., Yahimovich S.Yu. The material security and the living standard of workers at the Chinese Eastern Railway (1922–1931) // Smart Innovation, Systems and Technologies. 2019. Vol. 139. P. 695–701. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18553-4_86.
- Socio-demographic factors of industrial injuries of railway workers / V. Lapshov, S. Kuleshov, A. Ozerov, Yu. Trubina, P. Kostin // X International Scientific Siberian Transport Forum – TransSiberia 2022. Transportation Research Procedia. 2022. Vol. 63. P. 2217–2221. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2022.06.250.