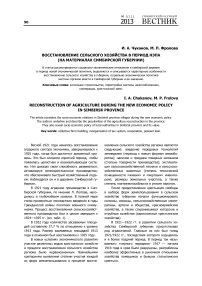Восстановление сельского хозяйства в период НЭПа (на материалах Симбирской губернии)
Автор: Чуканов Иван Альбертович, Фролова Марина Павловна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (11), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются социально-экономические отношения в симбирской деревне в период новой экономической политики, выделяются и описываются характерные особенности восстановления сельского хозяйства в губернии, социально-экономическая политика местных органов власти в Симбирской губернии и ее значение.
Колхозное строительство, перестройка системы налогообложения, кооперация, крестьянский заем
Короткий адрес: https://sciup.org/14113748
IDR: 14113748
Текст научной статьи Восстановление сельского хозяйства в период НЭПа (на материалах Симбирской губернии)
Весной 1921 года началось восстановление аграрного сектора экономики, завершившееся к 1925 году, когда был достигнут довоенный уровень. Это был слишком короткий период, чтобы появилась целостная и всеохватывающая система. Нэп доказал свою способность развиваться, активизируя мелкокрестьянское производство, что обеспечивало быстрый хозяйственный подъем. Наблюдался он и в деревнях Симбирской губернии.
В 1921 году аграрное производство в Симбирской губернии, по мнению Л. Лютова, находилось в глубочайшем кризисе. В полной мере стали проявляться последствия введения в годы Гражданской войны политики военного коммунизма. Процесс восстановления сельскохозяйственного производства был в целом завершен к 1924—1925 гг. (см. табл. 1).
В 1922 году количество засеваемых площадей составляло 37,7 % по отношению к уровню 1913 года. Размер засеваемых площадей 1913 года в основном был восстановлен к 1925 году.
В новых условиях экономического развития участие различных видов крестьянских хозяйств в процессе восстановления сельского хозяйства региона было неравнозначным. Важнейшими критериями выявления степени участия каждой из форм землепользования в процессе восста- новления сельского хозяйства региона являются следующие: введение передовых технологий земледелия (переход к новым формам севооборотов); наличие и продажа товарных излишков (степень товарности производства); эксплуатация сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственных животных (степень технической оснащенности «живым» и «мертвым» инвентарем); размеры земельных участков, а также степень платежеспособности в уплате налогов.
После предоставления крестьянам свободы в выборе форм землепользования в сельском хозяйстве губернии начали функционировать колхозы, совхозы, сельскохозяйственные кооперативы, артели и общества, красноармейские хозяйства, а также сохранившиеся хуторские и отрубные хозяйства (единоличные крестьянские хозяйства).
В 1921—1922 гг. в развитии сельского хозяйства Симбирской губернии присутствовал ряд ограничений. Главным из них был голод 1921/1922 гг., последствия которого ощущались и в более поздний период. В период так называемого «черного передела» 1917 — начала 1918 года в крае были разрушены, разграблены наиболее эффективные в рыночном отношении хозяйства помещиков и бывших столыпинских крестьян.
В течение 1922—1924 гг. началось восстановление сельского хозяйства благодаря мероприятиям, которые внедрялись в экономику сельского хозяйства в период реализации основных направлений новой экономической политики. Наблюдался рост производства сельскохозяйственной продукции, поставляемой на рынок. Развивалась и качественная сторона аграрного производства. Уже к 1925 году некоторые виды хозяйств начинают переходить к введению передовых технологий земледелия, и прежде всего новых форм севооборотов. В 1925 году в сельскохозяйственных объединениях и других видах хозяйств использовался четырехпольный севооборот (см. табл. 2).
Осуществлялся постепенный переход и к пятипольной системе севооборота (см. табл. 3).
Из приведенных таблиц наглядно видно, что к введению передовых технологий земледелия, а именно новых, более эффективных форм севооборотов, в большей степени стремились единоличные крестьянские хозяйства.
Таблица 1
Динамика увеличения посевных площадей в Симбирской губернии в 1913—1925 гг. (в га)*
|
№ п/п |
Рассматриваемые годы |
Площадь посева, га |
Процент посевов |
Площадь посева ржи, га |
Процент к прошлым годам |
|
1 |
1913 |
299 271 |
100 |
197 211 |
100 |
|
2 |
1922 |
108 944 |
37,7 |
91 321 |
48,34 |
|
3 |
1925 |
267 766 |
96,43 |
189 112 |
99,1 |
*Составлено по: ГАУО. Ф. 345. Оп. 1. Д. 143. Л. 23.
Таблица 2
Динамика перехода некоторых видов хозяйств на четырехпольный севооборот по состоянию на конец 1925 года *
|
№ п/п |
Виды хозяйств |
Колхозы |
Общинные хозяйства |
Отрубные хозяйства |
Хуторские хозяйства |
|
1 |
Количество |
14 |
4 |
8 |
4 |
|
2 |
Общая площадь |
1707 десятин |
3484 десятины |
549 десятин |
379 десятин |
*Составлено по: ГАУО. Ф. 345. Оп. 1. Д. 112. Л. 136.
Таблица 3
Динамика перехода некоторых видов хозяйств к пятипольной системе севооборота в 1925 году *
|
№ п/п |
Виды хозяйств |
Колхозы |
Общинные хозяйства |
Хуторские хозяйства |
|
1 |
Количество |
5 |
4 |
3 |
|
2 |
Общая площадь |
373 десятины |
468 десятин |
58 десятин |
*Составлено по: ГАУО. Ф. 345. Оп. 1. Д. 112. Л. 136.
Активное использование сельскохозяйственных орудий увеличивало общую эффективность производства. Передовые крестьянские хозяйства (в связи с переходом на севооборот) стали постепенно обзаводиться различными, сначала самыми простыми орудиями, потом все более сложными машинами, начали вводить улучшенные приемы земледелия, применять на- возное удобрение. Это было заметно среди отрубников и хуторян, имеющих собственные земельные участки.
Государство организовало в аграрном секторе экономики работу так называемых прокатных станов. Это было сделано с той целью, чтобы крестьяне, испытывающие острую нужду в аграрном инвентаре, могли воспользоваться с оплатой на льготных условиях машинами, механизмами, применяемыми для обработки земли. Именно единоличные крестьяне в большей степени стремились использовать возможности государственной помощи сельскому хозяйству, в частности, возможности прокатных пунктов. Теперь крестьянские хозяйства получали возможность арендовать сельскохозяйственные орудия. Именно они были наиболее активными арендаторами сельскохозяйственной техники, в то время как колхозы и совхозы считали, что эта форма хозяйствования для них подходит мало.
В исследуемый период все крестьянские хозяйства разделялись на категории по размерам земельных участков. У 10 категории крестьянского населения площадь обрабатываемого земельного участка превышала 16 десятин. У 9 категории площадь обрабатываемого земельного участка была от 10 до 16 десятин. И так далее по нисходящей. Существовала также так называемая беспосевная категория крестьянского населения. Крестьяне, принадлежащие к этой категории, не имели собственного земельного участка. Основной деятельностью этой категории было батрачество .
Процент зажиточных крестьянских хозяйств, а значит, отрубных и хуторских форм землепользования (зажиточные крестьяне предпочитали именно эту форму землепользования), был среди общей массы сельчан незначителен, около 17 %. Но эта группа крестьянских хозяйств была в большей степени обеспечена землей и «живым инвентарем» (сельскохозяйственными животными), что приводило к повышению эффективности в ведении хозяйства.
Государство стремилось создать для аграрного сектора экономики благоприятные условия. Это проявилось в период 1922 — начала 1924 гг., когда еще не были преодолены последствия голода. Местные органы власти создавали определенные условия для стимулирования торговли хлебом, и крестьянское население, имеющее наиболее успешные хозяйства, выставляло часть своей продукции на продажу. Известный немецкий историк Ш. Мерль, анализируя данные статистики 20-х годов в своей книге «Аграрный рынок и новая экономическая политика», приходит к выводу, что цены продажи сельскохозяйственной продукции были для крестьян значительно более выгодными по сравнению с 1913 годом.
Однако большинство крестьянских хозяйств с трудом сводили концы с концами. В крестьянских хозяйствах губернии не было товарных остатков, кроме трех категорий крестьянского на- селения: 8, 9, 10. Имело место «отчуждение хлеба на рынок» также 8, 9 и 10 категориями крестьянского населения, что позволяет сделать вывод о том, что товарный хлеб производила незначительная часть крестьянских хозяйств, а остальные едва-едва кормили себя сами.
Быстрому экономическому возрождению деревень губернии способствовали преобразования, проводимые представителями местных органов советской власти. Это и мероприятия по совершенствованию системы налогообложения, которые позволили руководству страны не только остановить инфляцию к 1924 году, но и ввести новую валюту — червонец. Все расчеты по сельскохозяйственному налогу проводились не в натуральной, а денежной форме. Это, как считает Ш. Мерль, сразу возымело свое действие, так как возродило интерес крестьян к результатам своего труда, ведь имеющиеся излишки продуктов снова могли легально продаваться на рынках.
Также было принято решение объявлять нормы налоговых ставок весной, чтобы дать возможность сельскохозяйственному производителю заранее рассчитать сумму налогового сбора.
В первые месяцы 1925 года началась подготовка к проведению экономических реформ на селе. Местные органы власти в губернии снизили уровень налогообложения в среднем на 57 %. К примеру, крестьяне в 1924 году уплачивали с 1 десятины пахотной земли 4 руб. 28 коп. налога, а в 1925 году — всего 1 руб. 81 коп. Произошло уменьшение налогового бремени и в пересчете на 1 едока: с 5 руб. 39 коп. до 2 руб. 21 коп. Тем не менее вместо 470 млн руб. сельхозналога в 1925 году удалось реально собрать по стране лишь 330 млн руб.
Крестьянство, наблюдая двойственность и непоследовательность проводимой социальноэкономической политики в деревне, предпочитало скрывать доходность своих хозяйств. Это может подтвердить минимальное увеличение числа разделившихся дворов, например, в Арда-товском уезде губернии. В 1924 году таких дворов было 2,40 %, в 1925 году — 2,62 %, в 1926 — 2,68 %. Английский историк А. Ноув пришел к выводу, что до 1925 года руководство СССР предполагало действовать в рамках нэпа, осуществляя борьбу с частником лишь экономически, посредством более эффективного управления государственной торговлей и промышленностью, то есть осуществлялось ограничение на государственном уровне развития так называемых «капиталистических элементов».
К тем собственникам, кто имел задолженности или совершал экономические проступки, применялись достаточно мягкие судебно-административные взыскания. Так, согласно циркуляру Ульяновского губисполкома от 24 апреля 1925 года, при первичном обнаружении неучтенных объектов их просто включали в налогообложение. Однако повторное утаивание или предоставление заведомо ложных сведений могло повлечь уже судебную ответственность.
Директива от 8 ноября 1925 года уточняла правила выставления на торги крестьянского имущества в случае существенных недоимок. Описи и продаже не подлежали земледельческие и промысловые орудия; семена, необходимые для посева; неснятый урожай; одна корова, одна лошадь или заменяющий ее скот. В губернии на крестьян, не заплативших вовремя налог, налагался штраф в размере от 1 до 5 руб. в зависимости от суммы задолженности. С 1926 года более широко стали применяться такие меры наказания, как лишение свободы и принудительные работы. Так, в Карсунском уезде Ульяновской губернии с сентября по декабрь 1926 года количество заключенных под стражу увеличилось в полтора раза.
В 1925 году XVI партконференция РКП(б) приняла решение о переходе от административных мер борьбы с частным капиталом к либерализации внутридеревенских отношений. Уже вскоре III съезд Советов (май 1925 г.) предложил пойти на уступки крестьянам в области ценовой политики. Предпринимались конкретные шаги, облегчающие использование наемного труда, расширяющие свободу земельных отношений: допускалась долгосрочная аренда, ликвидировались маломощные совхозы, устанавливалась 25-процентная скидка с подесятинной оплаты землеустроительных работ на всей площади крестьянских земель, что, безусловно, ускоряло этот процесс. Возможность использовать внутренние резервы стала благоприятной почвой для возрождения аграрного сектора.
Нэповская деревня незамедлительно отреагировала на хозяйственные преобразования, осуществляемые властями. В первую очередь это коснулось производительной сферы села. В 1923—1925 гг. наблюдается рост посевных площадей во всех уездах губернии. Хотя неурожай 1924 года несколько снизил общие показатели, но он не смог переломить наметившуюся положительную тенденцию (см. табл. 4).
Увеличивалась и площадь пахотных земель. Крестьяне, расширяя товарность своих хозяйств, постепенно совершенствовали систему обработки земли, осуществлялся переход от трехполья к многополью. Менялась и структура посевов. Многопольная система севооборота предусматривала не только посевы ржи, пшеницы, но и производство технических культур. Приоритет отдавался тем видам, которые могли быть легко реализованы и имели устойчивый спрос. Увеличиваются посевы овса, конопли и т. д. Происходит некоторое уменьшение удельного веса площадей, занятых под просо. Изменяется номенклатура возделываемых культур в сторону расширения ее общего ассортимента и перехода на выращивание технических культур (табл. 5).
Таблица 4
Увеличение посевной площади в губернии в 1924—1926 гг. (га)*
|
№ п/п |
Наименование уезда |
1924 г. |
1925 г. |
1926 г. |
|
1 |
Алатырский |
34 765 |
41 671 |
47 554 |
|
2 |
Ардатовский |
37 987 |
42 956 |
48 890 |
|
3 |
Карсунский |
39 848 |
43 129 |
51 223 |
|
4 |
Сенгилеевский |
38 474 |
43 662 |
52 334 |
|
5 |
Симбирский |
39 377 |
47 890 |
54 670 |
|
6 |
Сызранский |
38 490 |
44 654 |
5 340 |
*Составлено по: ГАУО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 735. Л. 355;
Д. 678. Л. 342.
Таблица 5
Характер изменения посевных площадей в Симбирской (Ульяновской) губернии в 1913—1929 гг. (в %)*
|
№ п/п |
Годы |
Пшеница |
Овес |
Просо |
|
1 |
1913 |
18,5 |
41,3 |
18,2 |
|
2 |
1922 |
5,3 |
26,0 |
51,3 |
|
3 |
1923 |
9,7 |
29,8 |
39,8 |
|
4 |
1924 |
12,9 |
28,9 |
34,0 |
|
5 |
1925 |
11,8 |
27,6 |
32,1 |
|
6 |
1929 |
14,6 |
27,9 |
31,8 |
*Составлено по: ГАУО. Ф. Р-345. Оп. 1. Д. 485. Л. 24; Д. 676. Л. 242; Ф. Р-45. Оп. 1. Д. 737. Л. 255.
Привлекательной культурой для крестьянина продолжал оставаться картофель, производство которого составляло в среднем по губернии к 1925 году около 20 тыс. тонн. В Ардатовском уезде губернии, к примеру, в 1924 году было собрано 4,0 тыс. тонн картофеля. В 1925 году этот показатель увеличился до 5,4 тыс. тонн. В губернии за два года было собрано 53 950 тонн картофеля, а в 1926 году — 63 431 тонна, что говорит об общем повышении товарности хозяйств. Губерния по удельному весу посевных площадей к 1926 году продолжала значительно отставать от многих других губерний Поволжья. Это можно объяснить как ее малоземельем, так и аграрным перенаселением. Быстрее же всего восстановительные процессы проходили в наиболее экономически развитых уездах губернии: Ульяновском, Карсунском, Сызранском.
Преобразование системы обработки земли сказалось на росте производства кормовых трав и на размерах посевных площадей под однолетними травами. Сложные погодные условия 1925 года несколько уменьшили показатель валового сбора сена, но ситуация выправилась уже к 1926 году. В 1926 году жители губернии расширили площади, занятые однолетними травами: в 1925 году — 13,5 тыс. га, а в 1926 году — 18,9 тыс. га. Это содействовало развитию мясного и молочного животноводства, которому крестьяне уделяли особое внимание, так как доходы от реализации молока и мяса (пользующихся устойчивым спросом на городских рынках) занимали важное место в структуре крестьянского бюджета.
Вскоре деревня смогла превысить довоенную планку в численности поголовья свиней, крупного и мелкого рогатого скота, однако значение свиноводства в крестьянских хозяйствах было еще невелико (табл. 6).
Таблица 6
Изменение количества поголовья скота в Ульяновской губернии в 1911—1929 гг.
(в тысячах голов)*
|
№ п/п |
Годы |
Лошади |
Коровы |
Свиньи |
|
1 |
1911 |
191,8 |
183,5 |
123,5 |
|
2 |
1922 |
121,4 |
155,6 |
64,2 |
|
3 |
1923 |
129,0 |
156,6 |
73,4 |
|
4 |
1924 |
155,6 |
185,7 |
79,8 |
|
5 |
1925 |
168,4 |
207,5 |
82,8 |
|
6 |
1929 |
186,3 |
223,3 |
91,2 |
*Составлено по: ГАУО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 335. Л. 312;
Д. 398. Л. 228; Д. 739. Л. 38.
В 1924—1926 гг. более интенсивно происходил процесс воспроизводства стада, так как крестьяне не стремились увеличить количество мяса, поставляемого на рынок. Познавательными следует признать мероприятия по восстановлению конского поголовья, проводившиеся в соответствии с решениями III Всесоюзного съезда Советов (май 1925 г.). Уверенный подъем животноводческой отрасли благотворно сказался на росте и усилении сельскохозяйственного производства, что, в свою очередь, вселяло в единоличника надежду на «взаимовыгодное сотрудничество» с властью, желание поверить в то, что времена «военного коммунизма» уже никогда не вернутся.
Значительная роль отводилась кооперации , которая должна была стать посредником между аграриями и государством. К 1926 году удельный вес кооперированных крестьянских хозяйств в СССР достиг 35 %.
Это не могло не отразиться на росте кооперативного движения в губерниях. К сентябрю 1926 года уже 36 % жителей губернии были заняты в различных формах кооперации. Руководство страны стало уделять значительное внимание идее производственной кооперации. Особой популярностью среди деревенских жителей пользовались товарищества по совместной обработке земли (ТОЗ), так как они, сохраняя значительные элементы индивидуального хозяйства, при этом решали важную для крестьян проблему улучшения обработки земли . Крестьянство охотно объединялось в ТОЗы, предпочитая эти формы артели и коммуне, которые пыталось навязать крестьянству в годы нэпа руководство страны, считая их наиболее подходящими для крестьянства. В 1925 году было зарегистрировано 67 ТОЗов.
К такой форме организации, как коммуна или артель, крестьянство относилось настороженно. Коммуны не пользовались авторитетом среди селян, что объясняется не только высокой степенью обобществления собственности, но и их неэффективной работой. Обследование коммуны КИМ, находящейся в Ардатовском уезде губернии, состоящей всего из 5 человек, выявило ее большую задолженность по кредиту и крайне слабую общую работу.
Осторожность крестьян вполне понятна, ведь доверие к аграрной политике большевиков было подорвано в период «военного коммунизма» и возрождалось медленно, с большим трудом. РКП(б), исходя из идеологических соображений, все больше делала ставку на коллективные хозяйства, оказывая им всемерную помощь и поддержку. Их землеустройство проводилось в первую очередь, причем большую часть расходов брали на себя административно-хозяйственные органы. Многие артели и коммуны, как вышеупомянутая коммуна «КИМ», жили исключительно за счет государственных дотаций. Инструкция Ульяновского губисполкома рекомендовала при отводе земли сельскохозяйственным коллективам выдавать ссудный кредит до 90 % таксовой стоимости работ.
Крупные скидки предоставлялись колхозам в приобретении сельскохозяйственного инвентаря и сложной техники. Несмотря на это, процесс численного увеличения и укрупнения колхозов шел медленно. Так, в губернии в 1924 году насчитывалось 85 колхозов (артелей), в 1925 году — 91, а в 1926 году — всего 59. То есть многие из них развалились ввиду того, что крестьяне не хотели в них работать.
Экономическое положение колхозов было очень неустойчивым и слабым. В середине 1927 года на отдельный колхоз приходилось 13 крестьянских хозяйств, 50—52 га посевов, 3—4 лошади, 6—7 голов крупного рогатого скота, 9—10 овец, 4 свиньи. Стоимость обобществленных средств производства в целом по губернии исчислялась всего в 4 тыс. руб.
Представители власти пытались найти решение в административно-хозяйственной плоскости, установив твердые обязательные цены для государственной, кооперативной и частной торговли, снижая цены на промышленные изделия и поднимая заготовительные цены.
В конце 1925 года право торговли хлебом для частников было резко ограничено, хотя еще летом единоличная торговля в Ульяновской губернии специально была освобождена от промыслового налога. Вмешательство государства способствовало переводу товарных потоков в кооперативную торговлю (увеличив долю государственной торговли) и уменьшало товарооборот частника. Мы считаем, что в 1926—1927 гг. произошел переход от политики «ограничения частника» к его «вытеснению».
В системе сельскохозяйственной кооперации шире начинает применяться практика дифференцированных вступительных взносов в зависимости от социального статуса. Было ограничено кредитование верхушки деревни. По свидетельству современников, «крепких в кооперацию не принимают. Крестьян разделили, а кооперацию разорили и разложили».
Кредитование бедноты осуществлялось бесперебойно, из специального фонда. Крестьяне из средств фонда получили в 1924 году 249 тыс. руб., в 1925 году — 1 млн 354 тыс. руб., а в 1926 году — 2,5 млн руб.
По решению местных властей работы по разверстыванию на хутора и отруба проводились в последнюю очередь. На их проведение выделялось не выше 50-процентной таксовой стоимости. Одновременно было принято решение о значительном сокращении предоставления кредитов единоличным хозяйствам для приобретения сельхозмашин.
Можно утверждать, что основная причина трудностей в развитии сельского хозяйства кроется в наметившейся с весны 1926 года такой корректировке нэпа, которая снижает его потенциал и хозяйственную привлекательность для сельских тружеников. Это и отказ от неналоговых методов накопления, и товарный дефицит, и в корне неверная ценовая политика. Крестьянские хозяйства в эти годы продолжают сохранять направленность на самообеспечение всем необходимым.
Таким образом, до 1926 года претворение в жизнь решений руководства страны и регионов по переводу сельского хозяйства на рыночные рельсы привело к подъему сельского хозяйства, постепенному внедрению в деятельность индивидуальных крестьянских хозяйств интенсивных форм ведения хозяйства. Стали складываться мощные товарные хозяйства, которые стали главным производителем товарной сельскохозяйственной продукции.
Однако с первых дней осуществления нэпа власти, руководствуясь идеологической доктриной, взяли курс на ограничение частника в сельскохозяйственном производстве. Затем это переросло в кампанию по его хозяйственному вытеснению при помощи административных методов и кредитно-финансовых и ценовых рычагов.
Попытки руководства страны справиться с рыночной стихией привели к свертыванию рыночных механизмов, сузили рамки новой экономической политики в аграрном секторе. Давление партийно-государственного администрирования все сильнее сказывалось на крестьянском хозяйстве, подавляя его активность, заставляя искать пути самосохранения и тем самым подталкивая к новой конфронтации с господствующей политической и экономической системой.