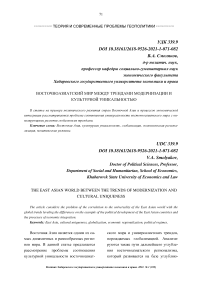Восточно-азиатский мир между трендами модернизации и культурной уникальностью
Автор: Смоляков В.А.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Теория и современные проблемы геополитики
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье на примере политического развития стран Восточной Азии и процессов экономической интеграции рассматривается проблема соотношения универсальности восточноазиатского мира с нивелирующими различия глобальными трендами.
Восточная азия, культурная уникальность, глобализация, экономическая регионализация, политические режимы
Короткий адрес: https://sciup.org/143175729
IDR: 143175729 | УДК: 339.9 | DOI: 10.38161/2618-9526-2021-1-071-082
Текст научной статьи Восточно-азиатский мир между трендами модернизации и культурной уникальностью
Восточная Азия является одним из самых динамичных и разнообразных регионов мира. В данной статье предлагается рассмотрение проблемы соотношения культурной уникальности восточноазиат- ского мира и универсалистских трендов, порождаемых глобализацией. Анализируются также пути дальнейшего углубления восточноазиатского регионализма, который развивается на базе углубляю- щейся экономической интеграции и поиска общей восточноазиатской идентичности. Поставленная проблема является продолжением старого спора между сторонниками сближающей образы жизни модернизации и прогресса в историческом развитии человечества, с одной стороны, и консервативными сторонниками культурного детерминизма и уникальности национальных путей развития – с другой.
Проблема социально-экономических, политических и культурных особенностей восточноазиатского мира привлекает внимание исследователей с 1960-х годов. Непосредственной причиной, поставившей Восточную Азию в центр всеобщего интереса, стало «экономическое чудо», начавшееся в Японии, затем продолженное «четырьмя азиатскими тиграми» – Южной Кореей, Тайванем, Гонконгом и Сингапуром. За ними последовал «второй эшелон» стран с высокими темпами экономического роста, включающий Таиланд, Малайзию, Индонезию и Филиппины. Успешная реализация программы «реформ и открытости» Дэн Сяопина превратила к 2014 г. Китай во вторую по ВВП страну мира, а также в главного геополитического конкурента Соединенных Штатов Америки. К 2049 г. коммунистические лидеры КНР планируют превратить свою страну в процветающую и высокоразвитую в экономическом отношении сверхдержаву. Однако, возможно, это произойдет ещё раньше. Достижения Восточной Азии в экономике заставили западных учёных пересмотреть старые ев-роцентристские взгляды на роль конфуцианства (М. Вебер) и других восточно- азиатских ценностей и приступить к поиску культурологических факторов, способных дать объяснительную схему данного феномена. Первая позиция изначально была представлена марксизмом с его теорией всеобщих законов истории и последовательной сменой социальноэкономических формаций во всемирном масштабе. В марксистской парадигме есть также конечная станция развития человечества – полный коммунизм. Однако в начале 1990-х гг. марксизм потерпел крах, и в конце ХХ в. выдвигается новый либерализм, предшественником которого можно считать И. Канта, который оставил нам эссе 1784 г. «Идея Универсальной истории с космополитической точки зрения». И. Кант предположил, что история имеет конечную цель и конец. Через 200 лет американский философ и политолог Френсис Фукуяма опубликовал статью и затем книгу «Конец истории». В результате оказалось, что новый либерализм, одержав победу над марксизмом, всё-таки взял у него один из постулатов – теорию, согласно которой в историческом развитии решающую роль играют императивы экономической рациональности. Составной частью нового либерализма является теория модернизации, которая вслед за марксизмом объясняет исторические изменения влиянием экономики и утверждает, что в итоге во всём мире будет создана универсальная система, основанная на принципах либеральной рыночной экономики, всеобъемлющих социальных и правовых гарантиях. Обслуживать и защищать её функционирование будет электоральная демократия, которая обеспечит интересы всех обитателей будуще- го космополиса. Таким образом, роль национальной культуры как детерминанты внутренней и международной политики будет снижаться под действием глобализирующего натиска. Этот процесс подрывает традиционные ценности и институты и приводит к сближению культур посредством коммуникаций, путешествий и торговли. Ф. Фукуяма утверждал, что распространение свободной рыночной экономики и демократической политики – это процесс, который гарантирует всё большую гомогенизацию всех человеческих обществ, независимо от их исторического происхождения или культурного наследия. Это также «подрывает традиционные социальные группы, такие как племена, кланы, расширенные семьи, религиозные секты и так далее» [7, p. xiv]. Распространение демократии, хотя и в различных формах, параллельно с экономическим развитием, как кажется, будет способствовать этому. Однако у теории единого линейного общественного прогресса есть принципиальные критики, которые указывают на то, что она недооценивает значение других факторов, а именно коренящихся в культуре внеэкономических мотиваций. Так, С. Хантингтон, автор цивилизационной парадигмы, утверждает, что основные различия в политическом и экономическом развитии цивилизаций имеют корни в различии культур [4, с. 26]. С. Хантингтон насчитывает в Восточной Азии шесть цивилизаций. Как известно, С. Хантингтон писал, что конфликты глобальной политики будут происходить между нациями и группами различных цивилизаций. Подобные культурно обоснованные аргу- менты отвергают гомогенизирующие последствия глобализационных сил. Боле того, они заостряют внимание на неблагоприятных последствиях этого процесса: люди получают опытным путём знания о своих различиях, поскольку культуры взаимно пересекаются и сталкиваются друг с другом. Среди критиков видное место занимает также Л. Пай – один из создателей теории об особой восточноазиатской культуре как ведущем факторе политики и экономики региона [12].
Культурологические подходы в социальных науках не новы. Ещё М. Вебер сделал знаменитые выводы относительно влияния протестантской и католической культур на экономический рост. После окончания Холодной войны, с исчезновением глобального идеологического конфликта, а вместе с ним и разделения мира на противоположные социальноэкономические системы, на передний план выступила теория глобализации, которая нивелирует различия [15]. С другой стороны, актуальность приобрела проблема регионализма в его экономической и политической ипостасях. В результате идеологическая дискуссия уступила место культурной. Это было связано с новыми политическими и экономическими явлениями, но также был выдвинут тезис, что именно культура лежит в основе экономических и политических процессов. Культурный детерминизм утверждает, что традиционные ценности обусловливают схемы социальной и экономической организации, включая модели политических отношений, роли индивида в обществе и управлении. Институты и нормы имеют значение только в контексте куль- туры, социальных процессов, уровня развития и ценностей, из которых они вытекают. Следствием этого является то, что общества или регионы, имеющие общее культурное наследие, развивают отдельные системы политических и социальных механизмов, отличающиеся от остального мира, а иногда и находящиеся в оппозиции к нему или даже в конфликте с ним. Из этого утверждения делался вывод, что эти культурные механизмы объясняют и такие важные проблемы, как сравнительные экономические показатели и социальная стабильность, а также определяют важнейшие вопросы международных отношений между странами с разными культурными типами.
Необычайный экономический рост, наблюдаемый в восточноазиатских странах, поставил политические и социальные механизмы этих стран в центр внимания. Их успех, в связи со спадом западной экономики и трениями, с одной стороны, между консервативными политическими лидерами Восточной Азии и западными странами по вопросу прав человека – с другой, способствовал с 1990-х гг. началу дискуссии об «азиатских ценностях». Эти ценности включают в себя следующие пункты, противопоставляемые западной политической культуре: 1) предрасположенность к однопартийной системе, а не к политическому плюрализму; 2) предпочтение социальной гармонии и консенсуса конфронтации и оппозиционности; 3) приоритетность социальноэкономических прав и благосостояния гражданским и политическим свободам; 4) благо группы и коллектива должно стоять выше прав индивида; 5) лояль- ность и почтение в отношении всех форм авторитета, включая родителей, учителей и правительство; 6) коллективизм и коммунитаризм выше индивидуализма и либерализма; 7) авторитарное правление, легитимность которого поддерживается успехами в экономике и ростом благосостояния подданных, намного эффективнее зависящих от предпочтений электората либерально-демократических правительств [15]. Социальные проблемы, возникшие в последние десятилетия на Западе, усугубили этот контраст. В частности, данная идея была решительно поддержана бывшим премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом и бывшим премьер-министром Сингапура Ли Куаном Ю в 1995 г. [9; 18; 10; 11, p. 42]. Эта концепция даёт аргумент тем политикам, которые сопротивляются абстрактным универсальным понятиям прав человека и демократии, особенно когда они используются для маскировки высокомерных, патерналистских, иногда интервенционистских тенденций в идеологии и политике Запада. После азиатского экономического кризиса 1997–98 гг. популярность концепции временно пошла на убыль. Однако в последние годы, в связи с проблемами, с которыми столкнулся Запад, эти идеи вновь начинают обретать силу и влияние. Анализ концепции «азиатских ценностей» показывает, что она основывается на ряде презумпций, имеющих серьёзные методологические изъяны. Уже само выражение «азиатские ценности» подразумевает, что социальные, экономические и политические характеристики восточноазиатских стран основаны на общей системе ценностей, которая явля- ется с достаточной отчётливостью, идентифицируемой и к тому же исключительной, и которая выходит за рамки национальных, религиозных и идеологических различий, существующих между отдельными странами. Это не соответствует реалиям восточноазиатского региона, который состоит из конфуцианской СевероВосточной Азии и цивилизационно разнообразной Юго-Восточной Азии. В этой системе взглядов утверждается, что культурные ценности лежат в основе чрезвычайно быстрых темпов роста стран Восточной Азии и обусловливают положительные социальные и политические характеристики региона. При этом Восточная Азия представлена как система ценностей в контексте дихотомии Восток – Запад. В данном контексте экономическому ренессансу Востока противопоставляются социально и экономически деградирующие западные общества. Сторонники «азиатских ценностей» и выдвинувшегося в 2000-е гг. неоконфуцианства превозносят групповую сплочённость, которую противопоставляют чрезмерному индивидуализму; покорность властям и хозяевам – перманентным политическим и социальным протестам; семью как основу общества – распаду семьи; бережливость, тяжёлый труд, приоритетность общественного долга – беспечности, недисциплинированности и отсутствию командного духа в работе; строгие нравственные нормы – декадансу, гедонизму и пермиссивизму либеральной культуры Запада. В данной политизированной интерпретации динамизм и сплочённость народов Восточной Азии оказываются в показательном контрасте с якобы идущим к неминуемому краху «морально вырождающемуся Западу» [8, p. 40]. Сторонники «азиатских ценностей» склонны поддерживать авторитарные режимы азиатского типа, утверждая, что они больше подходят для региона, чем западная демократия. Однако «азиатские ценности» неоднородны. Они включают такие духовные традиции и школы, как буддизм, конфуцианство, индуизм, интегральную йогу, ислам, даосизм, а также другие философии или религии. Поскольку сторонники концепции вышли из разных культурных слоёв, единого определения термина не существует, но обычно «азиатские ценности» охватывают ключевые аспекты конфуцианства, в частности уважение к старшим, лояльность по отношению к семье, корпорации и нации; отказ от личной свободы ради стабильности и процветания общества; а также трудовую этику и бережливость. Вдохновлённые бурным экономическим ростом восточноазиатских стран, инициаторы дискуссии рассчитывают создать паназиатскую идентичность как аналог идентичности Запада.
Весь комплекс этих идей вызывает ряд вопросов. Насколько однородны «азиатские ценности»? Можно ли методологически обосновать эти допущения причинности и детерминизма? Могут ли данные ценности послужить основой для общей восточноазиатской идентичности, что должно породить «единую Восточную Азию»? Выходят ли ценности Восточной Азии за рамки идеологии, культуры, религии и социальных и экономических изменений? Существует ли восточноазиатская модель демократии, которая определяет политические отношения, роль и масштабы правительства, понятия гражданства и модели политического участия? Какую роль сыграли культурные ценности в демократизации восточноазиатских обществ и какие последствия это имело для поддержания высоких темпов экономического роста? Какое влияние оказали культурные ценности на международные отношения региона, в частности на процесс экономической регионализации, а также на отношения между Восточной Азией и Западом? Возникает ещё один вопрос: какую роль сыграли культурные ценности в обусловливании быстрого экономического роста и развитии регионализма в восточноазиатских странах?
В данной статье не представляется возможным рассмотреть все эти вопросы. Мы ограничимся показом того, как происходящая конвергенция политических и экономических практик проявляется через уникальную культуру стран Восточной Азии. Для этого мы обратимся к двум наиболее значимым сферам – политическому развитию стран региона и экономической интеграции.
В чём же политическая специфика Восточной Азии? Проделанный автором данной статьи анализ тенденций политического развития стран Восточной Азии свидетельствует о наличии отчётливо проступающей региональной парадигмы. Обобщенно главная особенность восточноазиатского внутриполитического процесса заключается в превалировании авторитарных или гибридных режимов в сравнении с другими регионами мира. Видный исследователь азиатской политической культуры Л. Пай следующим образом характеризовал значение культур- ного фактора для развития политической жизни восточноазиатских обществ: «Тезис состоит в том, что любая политическая власть в высшей степени чувствительна к культурным нюансам и что, следовательно, культурные вариации имеют решающее значение в определении направления политического развития… Азиатские народы исторически всегда обладали богатым разнообразием концепций власти. Однако у всех у них общим знаменателем является идеализация благосклонного, патерналистского лидерства и легитимация подвластности» [13].
Нельзя не учитывать, что именно автократии заложили основы либеральных режимов, которые начинали не с политической либерализации, а с развития её экономических, социальных и культурных предпосылок. Повсеместно просматривается опережающее развитие капитализма (рыночной экономики) по отношению к развитию демократии. Южная Корея, Тайвань, Индонезия и Малайзия в течение длительного времени управлялись военными хунтами или имели однопартийный режим. Демократический транзит начался с Южной Кореи, где после отстранения в 1987 г. военных от власти в 1992 г. состоялись первые действительно свободные выборы. Затем наступила очередь Тайваня и Индонезии. Путь к демократии, проделанный Тайванем, показал, что конфуцианская политическая культура вовсе не является непреодолимым препятствием на пути к демократическому режиму, а индонезийский эксперимент с демократией является примером совместимости ислама с демократией. Кроме того, в регионе имеется несколько гибридных режимов, которые, как представляется, стабильно функционируют где-то между демократией и автократией.
В предлагаемой ниже таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа состояния и динамики политических прав и гражданских свобод в регионах мира, который был произведён на основе оценок состояния прав и свобод в десятках стран мира. При этом учитывались: а) политические; б) граж- данские свободы, входящие в «интегральный рейтинга свобод». Данные таблицы свидетельствуют, что из семнадцати стран и территорий Восточной Азии «несвободными» являются семь; «частично свободными» – шесть стран; а «свободными» только пять.
Эти цифры показывают, что среди всех регионов мира Восточная Азия по степени авторитарности уступает только странам «мусульманского ядра» [1, c. 38].
Таблица 1 – Рейтинг демократических свобод в регионах мира в 2015 году
|
Регионы |
Восточная Азия |
Европа |
Латинская Америка |
Большой Ближний Восток и Центральная Азия |
|
Количество стран |
17 |
41 |
24 |
20 |
|
Средний интегральный балл (от 1 до 7)* |
4,1 |
1,7 |
2,7 |
5,5 |
* Уровень гражданских прав и политических свобод оценивается в баллах от 1 – (высший балл), до 7 – (низший балл), и соответственно выводится усреднённый балл по региону, полученный путём деления суммы баллов на общее количество стран в регионе.
Политическая власть в Восточной Азии является, во-первых, моноцентричной, а не диффузной как в плюралистических демократиях; во-вторых, во многих странах персонифицированной; в-третьих, осуществляется или монолитной партией, или коалицией политических, бюрократических и экономических элит. Государство обладает большой властью и контролирует различные формы жизнедеятельности, ограничивая слабое и фрагментированное гражданское общество. Это ставит вопрос о необходимости демократизации политической жизни в странах Восточной Азии. Факт устойчи- вости авторитарных и гибридных режимов, как представляется, находится в корреляции с территориальными межгосударственными спорами, возрождением национализма в ряде стран, а также с межэтническими конфликтами. Демократии в Южной Корее, Тайване, Индонезии и Монголии являются молодыми и неполными. Опыт Малайзии, Филиппин, Таиланда демонстрирует возможность движения вспять. Даже Япония, по мнению некоторых политологов, не может быть признана в качестве подлинно либеральной демократии. Демократические институты в Восточной Азии представляют со- бой главным образом верхний слой общества. В глубине находятся довольно архаичные отношения и патриархальная культура, охватывающая основную массу граждан. Если суммировать особый «азиатский стиль демократии», то можно выделить следующие его черты: неразвитость политической сферы, которая не отъединена от других форм общественной жизни; преобладание отношений патрон – клиент над публичной политикой; отсутствие чёткой грани между официальными и неформальными отношениями, между гражданскими и военными властями; отсутствие публичной состязательности; наличие партийной системы с одной доминирующей политической партией в большинстве государств; относительно слабое гражданское общество [1, c. 176–185]. Тем не менее как европоцентристский подход, так и гипотеза азиатских ценностей неверны в своих утверждениях, будто бы демократия не может функционировать в Азии. В то же время ошибочен и контраргумент, что якобы модернизация автоматически поставит крест на авторитарных режимах региона. Они могут просуществовать ещё продолжительное время. На пользу устойчивости авторитарных и гибридных режимов работает фактор их высокой экономической эффективности. Авторитарные режимы настроены на конкурентную борьбу и развитие экспорта. Решая эту сверхзадачу, они властно подавляют идущие снизу социальные требова- ния и ограждают управленческие элиты от политического давления. Данное утверждение вовсе не означает апологетику авторитаризма или прописывание им большей эффективности в экономике по сравнению с демократиями. В современном мире есть немало авторитарных режимов в Африке, Азии и Латинской Америке, которые характеризуются беззаконием, высокой степенью коррупции и дегенеративным управлением. К тому же после появления среднего класса и с ростом образованности роль восточноазиатского «государства развития» (developmental state), которое ставит перед собой высокие национальные цели и авторитарными методами создаёт максимально благоприятные условия для экономики, в ряде стран Восточной Азии переходит к демократиям. Восточная Азия успешно осуществляет экономическую интеграцию, извлекая уроки из опыта Европейского союза. В то время как Европейский союз (ЕС) полностью интегрирован, Азия по-прежнему отстаёт в развитии экономической и политической интеграции. Правительства стран Восточной Азии выбрали свою модель региональной интеграции [2, c. 51–52]. Базирующийся на основе рыночных сил и инициатив в области торговоэкономического и финансового сотрудничества, регионализм в Восточной Азии отличается от европейской модели слабыми международными институтами и весьма ограниченной наднациональной властью международных организаций. Нынешние влиятельные региональные институты в Восточной Азии – это механизм Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Всеобъемлющее прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве (ВПСТТП). В ноябре 2020 г. было заключено соглашение между пятнадцатью государствами о создании ещё одного экономического блока – Всеохватывающего регионального экономического партнёрства (ВРЭП). Эти международные организации будут способствовать экономическому росту в Восточной Азии. Тем не менее даже они не могут считаться подходящей моделью будущего регионального развития. Профессор Ван пишет, что препятствием на пути регионального строительства является исторически и культурно сформированное негативное отношение к наднациональным институтам и «переливу» суверенитета, которое глубоко укоренилось в Восточной Азии [17, p. 245–253]. Барьерами на этом пути являются следующие факторы: значительные разрывы в уровнях экономического развития, несхожесть политических систем, геополитическая поляризация крупных держав, разнообразие культур и религий. Наряду с этим территориальные споры и ухудшение ситуации с безопасностью в регионе делают перспективы региональной интеграции ещё менее определёнными. АТЭС, АСЕАН, ВПСТТП и ВРЭП, сосредоточенные на содействии торговле и инвестициям, политически недостаточны для того, чтобы быть ведущей силой региональной интеграции Восточной Азии.
Если в Европе процесс интеграции развивался сверху, то есть путём соглашений между правительствами, то в Азии этот процесс пошёл снизу. Движущей силой регионального сотрудничества в Восточной Азии стал рыночный механизм. Изначально в Восточной Азии был взят курс на создание сети двусторонних и многосторонних соглашений о свободной торговле. Ключом к региональной интеграции в Восточной Азии стало сочетание сетей зон свободной торговли и гибкого субрегионального сотрудничества. Примером последнего можно считать экономическую интеграцию между смежными странами в бассейне реки Меконг. До недавнего времени правительства стран Восточной и Южной Азии отдавали предпочтение двусторонним, а не многосторонним отношениям. С 1989 г. по 2010 г. в Восточной Азии наблюдался взрывоподобный рост зон свободной торговли (ЗСТ), число которых выросло от 1 до 175. Однако это не привело к такому же росту внутрирегиональной торговли, которая как была, так и осталась на уровне 50 процентов [14]. Вероятно, в отличие от Европы в Восточной Азии мы вряд ли увидим в скором будущем отказ от суве- ренитета вместе с институционализацией наднациональных рамок. На этом пути наибольших успехов добились страны Юго-Восточной Азии, которые представляют собой своеобразную «региональноцивилизационную общность» [3, c. 60–67]. Государства-члены Ассоциации сформировали единственную в Азии успешную международную организацию АСЕАН и при этом выбрали особую модель объединения, получившую название «Путь АСЕАН». Институциональное строительство АСЕАН имеет возможность повести за собой региональную интеграцию. Но, наряду с этим, следует иметь в виду, что якобы альтернативная европейскому пути модель АСЕАН – это «интеграция с сохранением суверенитета», которая на практике является всего лишь второй из пяти ступеней восходящего процесса. Эти особенности нашли отражение в Бангкокской декларации 1993 г., в которой подчёркивались принципы суверенитета, самоопределения и невмешательства [5]. В АСЕАН нет обладающих правом принимать обязывающие решения наднациональных институтов, в том числе международного суда, без которого невозможно разрешать неизбежно возникающие споры между государствами, входящими в единую интеграционную структуру. Поэтому попытка сформировать к 31 декабря 2015 г. экономическое сообщество АСЕАН не увенчалась запланированным результатом, и выполнение этого плана было перенесено на 2020 год. По сравнению с Европой азиатский процесс институционализации обычно называют «мягким» и «зарождающимся», потому что «принцип невмешательства во внутренние дела», сформулированный также в Хартии АСЕАН, ещё долго будет оставаться препятствием для того, чтобы экономическая и политическая интеграция в Азии развивалась по пути углубления. Одним из объяснений этому принято считать, помимо особых политических условий, также культурные особенности народов Восточной Азии. С этими ценностями также связана и рассмотренная выше модель экономической регионализации.
Важной особенностью процесса регионализации Восточной Азии можно считать следование принципу «экономика впереди политики». Этот подход вполне согласуется с другими принципами АСЕАН, такими как предпочтение неформальных соглашений формальным, избегание острых политических разногласий, акцент на тех вопросах, по которым возможен консенсус, и т.д.
Можно согласиться с теми авторами, которые утверждают, что восточноазиатский мир предпочитает этическое содержание отношений институциональной форме [6].
В таблице 2 изложен составленный автором перечень наиболее значимых особенностей интеграционного процесса в странах Восточной Азии.
Таблица 2 – Две логики регионализации Восточной Азии и Европы
|
Критерии регионализации |
Европа (ЕС) |
Восточная Азия |
|
Характер политических режимов |
Только либеральные демократии, санкции против стран с тенденциями к авторитаризму |
Преобладание авторитарных или гибридных режимов, незрелость электоральных демократий |
|
Территориальные споры и политические конфликты |
Практически отсутствуют или блокируются |
Сохраняются или обостряются |
|
Национализм и этнополитические конфликты |
Мультикультурализм, защита национальных меньшинств |
Межэтнические конфликты даже с участием государства |
|
Общие политические и духовные ценности |
Общая европейская идентич-носность. Либеральная демократия как общая идеология |
Отсутствие общих политических ценностей, несформировавшаяся общая идентичность |
|
Формы экономической интеграции |
Единое экономическое пространство |
Зоны свободной торговли (ЗСТ) |
|
Ограничение суверенитета или вмешательство во внутренние дела |
Институционализированы в нормах и структурах ЕС |
Полный суверенитет и невмешательство |
|
Политическая интеграция |
Развивается в направлении федерализации |
Межгосударственное сотрудничество, политическая интеграция исключается |
|
Соотношение экономики и политики |
Органичное единство |
Экономика «отделена» от политики |
|
Государства-лидеры |
Германия и Франция сотрудничают |
Китай и Япония соперничают |
|
Взаимозависимость экономик |
Очень высокая |
Очень высокая |
|
Путь интеграции по вертикали |
Сверху вниз |
Снизу вверх |
|
Степень открытости |
Относительно закрытое сообщество |
Относительно инклюзивные и открытые сообщества |
В качестве вывода можно констатировать, что основные тенденции политического и экономического развития стран Восточной Азии свидетельствует о наличии связанных с культурными факторами существенных региональных особенностях как в политическом развитии стран региона, так и в международной области. И все же восточноазиатский мир не является абсолютно уникальной цивилизацией, находящейся вне столбовой дороги, по которой движется человечество. Во всех странах Восточной Азии действуют те же тренды, что и в остальной части мира. Это рыночная конкуренция, экономическая интеграция и развитие демократических институтов. Находясь в процессе поиска путей развития, страны региона выбирают такие формы и методы решения общественных проблем, которые органично связаны с их историей и культурными традициями.
Список литературы Восточно-азиатский мир между трендами модернизации и культурной уникальностью
- Смоляков, В. А. Политическое развитие стран Восточной Азии / В. А. Смоляков, Т. И. Захарова. Хабаровск. 2016. С. 38.
- Смоляков, В. А. Азиатско-Тихоокеанский регион : противоречивые взаимодействия геополитики и геоэкономики / В. А. Смоляков, Т. И. Захарова // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. Vol. XYI Issue 2. 2019. С. 51-52.
- Сумский, В. Юго-Восточная Азия в холодной войне и глобализирующемся мире / В. Сумский // Проблемы Дальнего Востока. 2005. № 4. С. 60-67.
- Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. М. : АСТ, 2005.
- Bangkok Declaration, Time, 14 June. 1993.
- Callahan W. A. Institutions or Ethics? The Logic of Regionalism in Europe and East Asia / William Callahan // Paper presented at the International Conference on China and East Asian regionalism. Fudan University - Shanghai China, 2005. January 7-8.
- Fukuyama, F. The End of History and the Last Man. New York : Praeger, 1992.
- Lawson, S. Politics and Cultural Myths : Democracy Asian Style versus the West / Stephanie Lawson // The Asia-Pacific Magazine. 1996. June. p. 40]. Mahathir bin Mohamad, Asiaweek, 8 September 1995. p. 4.
- Lee Kuan Yew. Society vs. the Individual // Time. 1993. 14 June.
- Mahathir bin Mohamad. No Freedom without Responsibility // New Straits Times. 1995. 20 May.
- Mahathir bin Mohamad and Ishihara Shintaro. East Beats West // Asiaweek. 1995. 8 September. p. 42.
- Pye, L. Asian Power and Politics: The Cultural Dimensions Of Authority. Cambridge, Massachusetts : Belknap Press Of Harvard University Press. 1985.
- Pye L., M. W. Pye. Asian Power And Politics: The Cultural Dimensions Of Authority. Cambridge, Massachusetts : Belknap Press Of Harvard University Press. 1985.
- Spaghetti bowl effect // Wikepedia -https://en. wikepedia. Org/wiki/ spaghetti bowl effect.
- Suramaniam, S. / Surain Suramaniam. The Asian Values Debate: Implications for the Spread of liberal Democracy // Asian Affairs. 2000, March.
- Tang, James T. H. A Clash of Values? Human Rights in the Post-Cold War World // «Asian Values» and Democracy in Asia : Proceedings of a Conference Held on 28 March 1997 at Hamamatsu, Shizuoka, as Part of the First Shizuoka Asia-Pacific Forum : The Future of the Asia-Pacific Region. Japan, 1997. https://archive.unu.edu/unupress/asian-values.html#CLASH.
- Hongyu Wang. Comparative Region-alization : EU Model and East Asia's Practice for Regional Integration // Journal of Global Policy and Governance November 2013, Volume 2, Issue 2, pp. 245-253.
- Fareed Zakaria, "Culture Is Destiny : A Conversation with Lee Kuan Yew", Foreign Affairs, 73, no. 2 (1994).