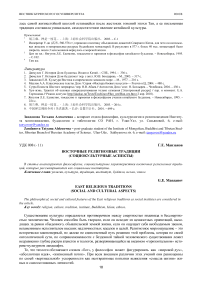Восточные религиозные традиции (социокультурные аспекты)
Автор: Манзанов Георгий Евгеньевич
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются философские, социокультурные характеристики восточных религиозных традиций, которые рассматриваются как социальные институты.
Религия, культура, традиция, институт, буддизм, ислам, этнос
Короткий адрес: https://sciup.org/148179746
IDR: 148179746 | УДК: 008
Текст научной статьи Восточные религиозные традиции (социокультурные аспекты)
Существование культуры определяется противоречием между смертностью индивида и бессмертностью человечества. Человек способен быть творцом, если он исходит из ценностных ориентаций, выходящих за рамки обыденного, обывательской земной жизни, если он ощущает себя необходимым звеном, незаменимым исполнителем высших надличностных идеалов и целей. Религиозное мироощущение – это исторически закономерный, но далеко не единственный путь решения этой проблемы, которая по своей онтологической сути, по соприкосновенности с бездонной тайной человеческого существования лежит несравненно глубже распри атеистов и теологов, разворачивающейся на видимом «горизонтальном» историко-культурном ландшафте.
То, что теологи обозначают словом «бог», у философов может фигурировать как «мировой дух», «абсолютная идея», «жизненный поток». При всем внешнем различии этих учений они равноценны по своей «вертикальной» ускоренности как неотвратимые попытки выявления «смысла жизни» живых и самоосознанных личностей.
В разные эпохи результаты были неодинаковыми. В давние времена господствовала апелляция к небесной опеке. Позже стали формироваться иные секулярные идеалы и ценности. Неодинаковы были и формы – этические, художественные, эстетические, философские, политические. Но сходной была их функция – выработать особое духовное оборудование, обозначить четкие координаты в безбрежном пространстве культуры, позволяющие человеку отыскать смысл собственного существования.
Человек в отличие от животного должен жить в «духе», в культуре и свободе. Но прийти к этому он может, лишь вписав опыт своей быстротечной жизни в вечность, лишь ощущая связь с неумирающим миром. В этой способности выходить за пределы обыденного и конечного проявляются величие и свобода человеческого духа.
Основоположниками социологии религии являются Э. Дюркгейм и М. Вебер. Э. Дюркгейм считал, что религия является одним из социальных институтов, который возник для удовлетворения определенных социальных потребностей. Поэтому для ее исследования необходимо применять социологические методы и критерии оценки. Смысл и предназначение религии, по мнению Дюркгейма, состоит в культивировании социальных (общественных) чувств и представлений, ритуалов и культовых действий, которые становятся обязательными для всех членов общества и, в представлении отдельных индивидов (групп), являются объективной реальностью [1].
М. Вебер также рассматривал религию как социальный институт. Однако в отличие от Дюркгейма он не считал, что религия как объективная реальность всецело подчиняет своему авторитету и власти отдельного индивида или группу. По мнению Вебера, религия составляет основу системы ценностей и норм, которые придают смысл и значение поведению и способу мышления каждого индивида, каждой социальной группы и тем самым способствует индивидуальной самореализации [2].
Религия как компонент культуры, однажды возникнув, может существовать благодаря трансмиссии, аккумуляции и воспроизводству религиозного опыта, иными словами, благодаря религиозной традиции. По отношению к религии это система связей настоящего с прошлым: при помощи этой системы совершаются определенный отбор стереотипизации религиозного опыта и передача стереотипов, которые опять воспроизводятся. Стереотипизация религиозного опыта проводится посредством институционализации, что обозначает закрепление религиозной практики и религиозных отношений в виде социальных норм, принятых в обществе. Институционализация религиозных отношений предполагает, что большинство членов общества признает легитимность данного религиозного института. Кроме того, институционализация предполагает организационное оформление религиозного института. Религиозная традиция является социальным институтом, который выступает в роли приспособительного устройства общества, созданного для удовлетворения его религиозных потребностей и регулируемого сводом социальных норм. Религиозные традиции как социальные институты формируются и создаются для удовлетворения религиозных индивидуальных и общественных потребностей и интересов. Они являются главными регулирующими механизмами во всех основных сферах жизнедеятельности верующих людей. Религиозные институты в прошлом, а в некоторых странах и сейчас обеспечивают стабильность и предсказуемость отношений и поведения людей, оберегают общество от дезорганизации, во многом образуют социальную систему. Г.В. Плеханов писал: «Религию можно определить как более или менее стройную систему представлений, настроений и действий. Представления образуют мифологический элемент религии, настроения относятся к области религиозного чувства, действия – к области религиозного поклонения или, как говорят иначе, культа» [3]. Всякая религия освещает, санкционирует определенный общественный порядок. Для этого создается система религиозных праздников и обрядов, которые тесно переплетаются с богослужебной практикой. Вся жизнь верующего человека направляется и регулируется религиозными институтами. Любой человек, включающийся в деятельность того или иного религиозного института, обязан выполнять соответствующие требования. Если человек не выполняет должным образом предписываемые религиозным институтом социальные функции и роли, то его могут лишить занимаемого им социального статуса. Для выполнения своих функций религиозный институт образовывает необходимые учреждения, в рамках которых организуется его деятельность.
Религиозная традиция в качестве социального института служит для постоянного воспроизводства особого типа отношений между людьми, которые верят в «божественное откровение» и соблюдают предписанные этим откровением правила и нормы поведения. Центральным компонентом такой традиции, определяющим устойчивость ее качественных характеристик, является религиозное учение, которое формирует мировоззренческие установки и ценностные представления верующих [4]. Религиозные традиции складываются вокруг «божественного откровения». Это откровение как бы пред- полагает смысл жизни в традиции, заключающейся в постижении истины со всеми вытекающими отсюда благами: рай, вечное блаженство, высшая мудрость и т.д. Например, в буддизме, как пишет Далай-лама XIV, «откровением» являются «четыре благородные истины»: «Это истинные страдания, это истинные источники, это истинные пресечения, это истинные пути. Страдания следует познать, источники их – устранить, пресечения страданий – осуществить, пути к (освобождению) следует пройти. Страдания следует познать – тогда не останется страданий, которые следовало бы познать. Источники страданий следует устранить – тогда не останется источников, которые следовало бы устранять. Пресечение страданий следует осуществить – тогда не останется пресечений, которые следовало бы осуществлять. Пути следует пройти – тогда не останется путей, которые следовало бы проходить» [5]. Все познание в буддизме ориентировано на объяснение содержания этих четырех истин, а проблема соотношения бытия и сознания решается формально-логическими построениями в жестких пределах заданной программы: раз существуют страдание и путь избавления от него, следовательно, остается только найти этот путь и человек будет спасен от страдания. На базе методов и средств постижения истины формируется шкала духовных ценностей, которые включаются в сферу общественных отношений и полностью регламентируют межличностные религиозные отношения. Так возникает социально-религиозная пирамида с двойственной иерархией: духовной и социальной, на нижнем уровне которой оказываются люди, занятые физическим трудом.
Российский востоковед В.И. Корнев подразделяет религиозные системы Востока на два типа: условно закрытые и условно открытые. К четко оформленным он относит джайнизм, индуизм, ислам, а также большинство религиозных сект, к сравнительно аморфным – буддизм, даосизм, синтоизм и шаманизм. В первом типе религиозных традиций наличествует единый свод правил для всех верующих, определяющий структурные контуры религиозной системы в целом, во втором такого свода нет или же он носит узко целевой характер, например, дисциплинарный монашеский устав Виная в буддизме [6].
В частности, в исламе религиозной традицией оказывается весь комплекс отношений, определенных шариатом. Известный востоковед Г.М. Керимов отмечает, что в шариате «сведены в единую систему законы, регулирующие хозяйственную жизнь, нормы морали и этики, мусульманские обряды и праздники и прочее, определяющие поведение верующих и порядок жизни всей мусульманской общины» [7]. Верующий является правоверным мусульманином, если он соблюдает шариат, или отступником, если не соблюдает. В шариате оговорены правила целой системы судопроизводства, назначение каждого мусульманского праздника и обряда, разработаны правила совершеннолетия, вступления в брак, развода, функции всех членов семьи, установлено множество запретов, касающихся торговли, кредитования, области искусства, семейно-брачных отношений, принятия пищи, поведения иноверцев; разработана шкала наказаний за воровство, безнравственные и греховные поступки, за убийство, прелюбодеяние и т.д.; детально оговорены имущественное право и налоговая система, правила купли и продажи, ведения торговых сделок, убоя животных, охоты, рыболовства и др. По словам Г.М. Керимова, «к числу самых тяжких преступлений относится отказ от религии или религиозных обрядов, за что мусульманин мог подвергнуться самому жестокому наказанию или поплатиться жизнью» [8]. Поэтому выход из исламской традиции, по существу, возможен лишь за пределами всей мусульманской общины. В то же время шариат способен вбирать вновь складывающиеся отношения и нормы поведения путем их интерпретации через Коран и Сунну, поэтому мы и называем ислам условно закрытой системой. Примерно так же обстоит дело и с другими условно закрытыми религиозными системами.
Условно открытые религиозные системы представляются как бы многослойными Так, в буддизме ядром системы является монашество (прежде всего та его часть, которая посвящает жизнь достижению просветления); затем следует прослойка верующих, в основном пожилых, ориентирующихся главным образом на религиозные цели (внутренний круг), и, наконец, основная масса верующих, устремленных преимущественно к социальным и материальным благам (внешний круг). Внешний круг является диффузным между религиозной традицией и светским обществом, так как часть верующих этого круга постоянно выходит из религиозной традиции и оказывается в современной системе общественных отношений. Формирование личности в религиозной традиции происходит путем усвоения индивидумом набора установок и правил поведения, навязываемых ему обычаем и локальным солидаризмом. Он знает, что соблюдение традиционных правил и установок откроет ему дорогу к определенным духовным и материальным целям. Эти цели преследуются и другими верующими, поэтому все они внимательно следят за поведением друг друга, а судьями выступают священнослужители и представители старшего поколения. Обязательное соблюдение общепринятых “правил игры” является непременным условием для достижения более высокого социального статуса. Чем сложнее и изощреннее эти правила, тем разработаннее шкала социального вознаграждения за их последовательное соблюдение, тем меньше времени остается у верующих для иных устремлений. Таким образом, внутри сложной и разработанной религиозной традиции активность верующих очень высока, но по отношению к социальному прогрессу такая религиозная традиция представляется инертной.
Этнокультурные традиции являются как бы каркасом этнической культуры. Религиозная традиция является компонентом этнокультурной традиции, часто определяет лицо того или иного этноса и выступает в качестве важнейшего этнозащитного механизма. Так, в эпоху средневековья в качестве важнейших эт-нозащитных механизмов выступали такие средства, как создание национальной письменности, а также принятие той или иной религии, роль которых особенно возрастала в условиях частого отсутствия государственности.
А.Я. Гуревич в работе «Категории средневековой культуры» пишет: «...мы ничего не поймем в средневековой культуре, если ограничимся соображением, что в ту эпоху царили невежество и мракобесие, поскольку все верили в бога, – ведь без этой «гипотезы», являющейся для средневекового человека вовсе не гипотезой, а постулатом, настоятельнейшей потребностью всего его видения мира и нравственного сознания, он был не способен объяснить мир и ориентироваться в нем. Ошибочное, с нашей точки зрения, не было ошибочным для людей средневековья, это была высшая истина, вокруг которой группировались все их представления и идеи, с которой были соотнесены их культурные и общественные ценности» [9]. В силу того, что религия регламентировала всю общественную и частную жизнь средневекового человека, в силу ее подобного кумулятивного характера, принятие этнической культурой, к примеру, буддизма монгольскими народами, имело важное значение для всего последующего хода ее исторического развития, во многом определяло основные контуры культуры монгольских народов. Отголоски подобной роли религии в истории народов можно наблюдать в современную эпоху. Примером этого может служить, в частности, драматическая судьба тибетского народа, в которой наряду с политическими и экономическими причинами огромную роль играет религиозный фактор. Функционирование этнической культуры как индивидуальной целостности предполагает наличие целого ряда особых этнодифференцирующих и этнозащитных механизмов, таких как язык, государство с соответствующими границами, религия, различные элементы быта, обряды, обычаи, включая эндогенные ограничения и запреты, законодательство, внешний облик (в том числе расовые различия), а также такой важный признак, как этническое самосознание [10].
У каждого этноса в ходе исторического развития в силу различных причин может присутствовать опасность исчезновения. В подобных условиях, коль скоро местная этнокультурная традиция (включая и этнодифференцирующие средства) не может противодействовать данному процессу, этнос вынужден прибегнуть к особым этнозащитным механизмам. В качестве таковых могут выступать, с одной стороны, те или иные элементы наличного фонда культурной традиции данного этноса, которые, находясь до того времени как бы в латентном состоянии, затем особым образом актуализируются и переосмысливаются. С другой стороны, в качестве этнозащитных механизмов могут выступить явления, заимствованные из других культур и представляющие собой в целом инновацию для данной этнической культуры. В случае, если данные механизмы или средства оптимальным образом выполняют возложенные на них функции, они тем самым включаются в основной фонд этнической традиции и в дальнейшем уже сами начинают выполнять роль этнодифференцирующих средств. В способностях этнической культуры к своевременной и действенной адаптации к изменяющейся внешней среде можно видеть меру ее пластичности и оптимальной дееспособности как особого социального организма.