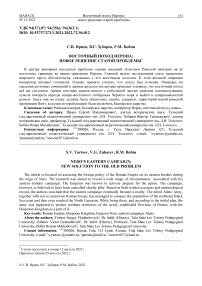Восточный поход Нерона: новое решение старой проблемы
Автор: Ярцев С.В., Зубарев В.Г., Бобин Р.М.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: История
Статья в выпуске: 14, 2022 года.
Бесплатный доступ
В центре внимания находится проблема оценки внешней политики Римской империи на её восточных границах во время правления Нерона. Главной целью исследования стало выяснение широкого круга обстоятельств, связанных с его восточным походом. К этой военной операции император активно готовился. Однако принято считать, что поход был отменён. Опираясь на сведения античных сочинений и данные археологии, авторы приходят к выводу, что восточный поход всё же состоялся. Армия союзных аланов вместе с небольшой частью римских военнослужащих сумела покорить народы северо-восточного побережья Чёрного моря и выйти в северокавказский регион. Здесь она по плану должна была обеспечить защиту северных территорий новой римской провинции Понт, в состав которой решено было включить Боспорское царство.
Римская империя, боспорское царство, император нерон, восточный поход, аланы
Короткий адрес: https://sciup.org/14125269
IDR: 14125269 | УДК: 94(37).07, | DOI: 10.53737/2713-2021.2022.72.96.012
Текст научной статьи Восточный поход Нерона: новое решение старой проблемы
МАИАСП № 14. 2022
При Нероне восточная политика Римской империи была весьма активной и достигла значительных успехов. Так что не случайно историография этого периода истории весьма значительна. Тем не менее некоторые вопросы римской внешней политики эпохи Нерона до сих пор не находят однозначного решения (Тревер 1953; Бокщанин 1966; Griffin 1987; Шмалько 1990; Champlin 1990; 2003; Панов 2008; 2011; 2012; Ярцев 2014; Ярцев, Бутовский 2018a; 2018b; Guzman 2014; Barrett et al. 2016; Poirot 2020). Так, нет единой точки зрения по вопросу о роли императора в проведении внешнеполитического курса. Если ряд специалистов видят в нем рассудительного и дальновидного государственного деятеля (Henderson 1903; Schur 1923), то их оппоненты критикуют проводимую им внешнюю политику как неэффективную (Hammond 1934; Lerouge 2007).
Еще сложней объяснить ситуацию, которая сложилась в отношениях между империей и т.н. царством Фарзоя в Северном Причерноморье. Есть все основания полагать, что этот варварский государь был союзником римского народа. Однако такого рода отношения с варварами противоречили большой имперской стратегии, направленной на покорение всего известного римлянам мира. На неоднозначность внешней политики Римской империи при Нероне указывает подготовка к восточному походу, которую трудно согласовать с заключением мирного договора с Парфией и с мирным разрешением ситуации с Арменией.
Армения как область, в которой уже давно усилиями Корбулона стремился утвердиться Рим, стала объектом соглашения между империей и Парфией. По этому договору ее правитель Тиридат должен был явиться к Нерону для получения диадемы, которую император намеревался возложить на его голову. Это событие произошло в 66 г. (Tac. Ann., XV, 31; Dio Cass., LXII, 23, 3). Нерон постарался представить этот визит как блестящую победу римского оружия. Однако новый договор, бесспорно, являлся и серьезным успехом Парфии. Ведь Армения продолжала рассматриваться как ее неотъемлемое владение (Griffin 1987: 232—233; Champlin 1990: 104—105; 2003: 118—119; Панов 2011: 173—174; Barrett et al. 2016: 241—243; Rocca 2017: 202).
Успехом внешней политики империи можно считать и заключение соглашения с царем Фарзоем, который с опорой на свое мощное воинство смог взять под контроль большую часть Северного Причерноморья (Ярцев 2014: 103—136). Возможно, эти варвары были связаны с боспорской сармато-иранской династией, отстраненной от власти при помощи римлян. Что в очередной раз свидетельствует в пользу того, что такой союз был временным и в любой момент мог вновь перерасти в военный конфликт (Ярцев 2016: 31). Сама идея заключить соглашение с варварами и позволить им чеканить свои монеты в Ольвии1 (Чореф 2018), похоже, для римлян представлялась вынужденной мерой. Безусловно, этому способствовало обострение ситуации на северо-восточных рубежах Римской империи. Тем не менее, несмотря на явное противоречие — заключения данного договора со стремлением римлян покорить весь известным им мир, царство Фарзоя на какое-то время превратилось в важнейшую часть буферной зоны Северного Причерноморья, в значительной степени затруднив врагам доступ к границам империи со стороны степей (Ярцев, Бутовский 2018a: 63).
Однако очевидно, что Фарзой не контролировал все Северное Причерноморье. Этот регион и северокавказские степи, скорее всего, были заняты носителями среднесарматской культуры (Ярцев, Бутовский 2018b: 148—149). О серьезном военном потенциале этих кочевников можно судить по их участию в событиях 35 г., когда, перейдя кавказские горы и
МАИАСП № 14. 2022
Восточный поход Нерона: новое решение старой проблемы ввязавшись в римско-парфянский конфликт, они нанесли сокрушительное поражение парфянам (Туаллагов 2014: 15).
Исходя из данного фактора, ранее мы и интерпретировали восточный поход Нерона (Ярцев, Бутовский 2018b: 149). Тем не менее, с этим походом, к которому император активно готовился в конце своего правления, до сих пор нет окончательной ясности. Напомним, что источники прямо не говорят об истинной цели этой военной операции. Даже точный маршрут продвижения войск остался неизвестным. Мы знаем только то, что войска могли быть направлены через «Каспийские ворота» (Tac. Hist., I, 6; Suet. Nero., 19), «Кавказские ворота» (Plin. Hist. Nat., V, 40) или одновременно в сторону «Каспийских ворот» и Эфиопии (Cass. Dio., LXVIII, 8, 1). Однако война с Вологезом в тот период времени (Cass. Dio., LXVIII, 8, 1) вряд ли была возможна по причине установления мирных отношений с Парфией (Ярцев, Бутовский 2018b: 147). Таким образом, отсутствие точной информации и фрагментарность источников являются основными причинами расхождения мнения ученых по поводу цели восточного похода Нерона. Предлагалось считать, что поход планировался с целью захвата Дербентского прохода и торгового пути в Индию (Stark 1966: 189), Дарьяльского стратегического прохода с западным ответвлением восточного торгового пути (Бокщанин 1966: 209) или оккупации Колхиды (Манандян 1946: 66—74). Иногда восточный поход Нерона рассматривается в контексте подготовки совместной римско-парфянской операции против неизвестных нам врагов (Бокщанин 1966: 209). Действительно, учитывая появление в эти годы на исторической арене аланов, данная гипотеза выглядит вполне обосновано (Ярцев, Бутовский 2018b: 147). Но в таком случае трудно объяснить, почему же восточный поход так и не состоялся. Попытки решить данное противоречие иногда приводят ученых к довольно оригинальным предположениям. Например, что Нерона куда больше интересовала возможность предстать перед римлянами в качестве победоносного императора, чем собственно военные цели похода (Панов 2012: 183).
Однако заметим, что еще А.И. Амиранашвили справедливо считала, что восточный поход Нерона был необходим для организации на территориях бывшего Понтийского царства Митридата VI Евпатора провинции Понт. В ее состав должны были войти как южнопонтийские территории, так и Боспорское царство. Успех в организации данной провинции способствовал бы превращению Чёрного моря во Mare Nostrum Римской империи. Если это так, то аннексия Понта, присоединение Колхиды в 63—64 гг. (Suet. Ner., 18) и царства Коттийских Альп в 66 г. (Амиранашвили 1938: 171; Панов 2012: 181—182), возможно, являлись частью этого плана. Видимо не случайно в 63—68 гг. изменяется статус Боспорского царства, что хорошо прослеживается по замене аббревиатуры на монограмму Нерона №^ на статерах. Вскоре их выпуск вообще был прекращен. На медных номиналах также исчезает монограмма , что, возможно, являлось важным шагом на пути к понижению статуса Боспорского государства до провинциального уровня (Латышев 1909: 111; Болтунова (Амиранашвили) 1939: 65; Анохин 1999: 143; Панов 2012: 181—182; Чореф 2015; 2017).
Трудно принять точку зрения исследователей, заключивших, что если у Нерона и были подобные планы, то осуществить их он не успел (Гриневич 1947: 233; Гайдукевич 1952: 30; Горемыкина 1956: 14; Фролова 1968: 47; Цветаева 1979: 16). Одно дело, когда движение к намеченной цели, по тем или иным причинам, не осуществлялось вообще, и другое, когда часть задач была выполнена, но после смерти Нерона деятельность на этом направлении была остановлена.
Стоит также добавить, что сам фактор возникновения царства Фарзоя в Северном Причерноморье и сложная ситуация, связанная с противостоящими ему варварами на северо-востоке данного региона не могли не учитываться в проведении внешнеполитического курса Римской империи в период правления Нерона (Ярцев, Бутовский 2018b: 148—149).
МАИАСП № 14. 2022
Возможно, что именно сложившаяся ситуация в Северном Причерноморье послужила причиной стремления римлян создать единую провинцию Понт, которая, по их замыслу, на северных рубежах должна была успешно противостоять царству Фарзоя, также, как на восточной границе — Парфии. Но в этом случае эта провинция должна быть единой территориально на всем протяжении того пространства, которое планировалось взять под контроль. Однако новая провинция должна была включить в свой состав не только лояльные к римлянам эллинизированные регионы, но и зоны влияния враждебных племен. Речь идет о варварах, в частности, о гениохах, без подчинения которых невозможно превратить эту территорию в единый округ с централизованным управлением и относительно безопасным размещением римских гарнизонов (Амиранашвили 1938: 171).
Гениохи, как считается, жили на прибрежной территории где-то между Питиунтом и владениями ахеев до р. Шахэ (Берулава, Папаскири 2013—2015: 248). Фактически они занимали земли между ахеями на севере и санегами на юге (Vell., II, 40, 1; Strabo, II, 4, 31, XI, 2, 1, 12—14, 5, 6, XVII, 3, 24). «За торетами народ ахеи. За ахеями — народ гениохи» (Ps.-Scyl., 75—76). «За …[ахейцами] владея соседней землей, живут гениохи и зиги» (Dionys. Per., v. 687—688). Гениохи, как и упоминающиеся вместе с ними те же ахеяне, зиги и другие племена, вошли в историю как люди, активно занимающиеся морским и прибрежным разбоем. Причем они не ограничивались нападениями на торговые суда. На своих лодках (камарах), вмещавших до 25—30 человек, гениохи совершали набеги на прибрежные местности, фактически являясь господами моря (Diod., XX, 25; Strabo, XI, 2, 12—14). При этом Страбон, описывая занятие пиратством данных племен, упоминает, что гениохами (возможно «возничими» — носителями лодок—камаров (Бгажноков 2016: 47, прим. 5)), управляли некие скептухи, подчиняющихся четырем царям (Strabo., XI, 2, 13). Учитывая данную особенность социального устройства отсталых пиратских племен, нередко делается вывод о слабой централизованной власти у последних и об отсутствии у них устойчивых государственных образований (Скаков 2013: 24—25). Дионисий Периэгет уточняет, что племена керкетов, торетов, ахейцев, гениохов, зихов, тиндариев—апсилов занимали восточное побережье Чёрного моря до р. Фасис (Ингури) и страны колхов (Dionys. Per., v. 687). Не исключено, что некоторые из них действительно являлись потомками древних абхазо-адыгских племен (Бгажноков 2016: 41). Однако вряд ли гениохов можно однозначно причислить к сванам (Меликишвили 1959: 91—92) или к какому-то другому народу. Мы склоняемся к мнению, что этноним гениохи являлся собирательным для нескольких разноязычных групп, хотя этническое ядро данного племени действительно могло быть колхоязычным (мегрелочанским), тем же сванским и каким-либо еще (Берулава, Папаскири 2013—2015: 271).
Однако для нас сейчас важным представляется не этническая идентификация гениохов и других пиратствующих племен, а истолкование факта расширения владений прибрежных народов на юго-восток. Время такой миграции зафиксировать очень сложно. Однако в контексте начавшегося движения племен можно рассмотреть сообщение Плиния Старшего, отметившего, что «богатейший город Питиунт разграблен гениохами» (Plin. NH., VI, 16). Он писал, что ахейцы также оказались близ этого города (Plin. NH., VI, 16). А меланхлены и кораксы заняли округу Диоскурии (Plin. NH., VI, 15), а гениохи и санны—гениохи — район Апсара и Трапезунта (Plin. NH., VI, 12).
Упоминание гениохов вместе с другими этносами северо-восточного побережья Чёрного моря вдали от своих исконных территорий пытаются объяснить не миграционными, а иными причинами. Например, влиянием какого-то раннего источника, отражающего еще доколонизационный период истории Причерноморья, когда гениохами контролировалась большая часть восточной прибрежной части Понта (Скаков 2013: 32—33). Иногда же этих
МАИАСП № 14. 2022
Восточный поход Нерона: новое решение старой проблемы вынужденных переселенцев, представляют некими южными гениохами — «иганиехами» урартских надписей, что также выглядит не слишком убедительно (Берулава, Папаскири 2013—2015: 249). Тем не менее, в источнике идет речь перемещении на новые земли помимо гениохов целого ряда этносов, что можно объяснить только фактом вынужденного ухода варваров с мест своего первоначального обитания по какой-то независящей от них причине. Как мы уже было сказано выше, начавшуюся миграцию косвенно подтверждает неожиданное нападение гениохов на Питиунт (Скаков 2013: 34). Другими словами, где-то в I в. н.э. гениохи и другие местные варвары под натиском внешней силы уходят из основных мест обитания на новые территории, где были ассимилированы со временем макронами/махелонами (Берулава, Папаскири 2013—2015: 249).
Подчеркнем, что не ясна понятна причина миграции приморских кавказских народов. Наш интерес к этому событию не случаен. Дело в том, что этнические перемещения вполне могли быть результатом политики крупных держав в кавказском регионе, включая Римскую империю. Во всяком случае, обращает на себя внимание то, что при Нероне особое внимание римлян было приковано к Кавказу. Начавшиеся в конце его правления перемещения крупных воинских подразделений в восточном направлении свидетельствуют о подготовке военных операций на Кавказе. Усиление Египта подразделениями из Африканской армии в 66 г. и размещение войск в Александрии обычно интерпретируются в контексте подготовки к войне в Эфиопии (Griffin 1987: 229; Паркер 2017: 109—110). Непосредственно же для боевых действий на Кавказе Нерон помимо отправки других воинских подразделений (Tac. Hist., II, 11, 27, 66) приказал сформировать новый легион I Italica (Suet., Nero, 19; Dio Cass., LV, XXIV, 2). Все это свидетельствует о подготовке римлян к военной операции, а не об осуществлении ложного маневра, призванного отвлечь парфян от помощи иудеям (Дибвойз 2008: 171). Конечно, значительные воинские силы (Лысенко 2007: 461) вряд ли были нужны для завоевания далекой Эфиопии (Шмалько 1990: 91). Для подчинения небольшой Кавказской Албании тоже не было смысла собирать такое большое количество римских войск (Лысенко 2007: 461). Весьма справедливо мнение, согласно которому экспедиции на Кавказ и в Эфиопию планировались Нероном одновременно и параллельно друг с другом (Griffin 1987: 229). Следовательно, на Кавказ должны были отправиться не все задействованные в данное время в империи воинские силы. Тем не менее, большую часть собранных войск в 68 г. Нерон вернул обратно (Tac. Hist., I, 6).
Ранее мы уже говорили, что главной целью восточного похода Нерона, скорее всего, являлись варвары Северо-Восточного Причерноморья и северокавказских степей (Гущина, Засецкая 1994: 39—40; Ярцев, Бутовский 2018b: 148—149). Вряд ли без установления контроля над данным регионом, равно как и над всей полосой северо-восточного побережья, где и проживали указанные племена, было бы возможно создать провинцию Понт, которая должна была включить в свой состав территории, как на южном, так и северном берегу Чёрного моря. Все это подразумевало серьезные усилия, которые должны были предпринять римляне ради осуществления своих грандиозных замыслов. Очевидно, что важность указанного проекта для всей государственной внешнеполитической стратегии на востоке, а также соответствие замысла старой мечте римлян о выходе границ империи в область «края света и Гирканского моря» (Pint. Luc., 36) делали невозможным быстрый отказ от данных грандиозных планов даже при стечении неблагоприятных обстоятельств. Вот почему, несмотря на вынужденный отказ от восточного похода и отправку собранных войск не по их первоначальному назначению, часть воинских подразделений все же могла выполнить поставленную задачу. Тем более, если при этом римляне смогли задействовать еще и силы дружественных варваров, что являлось обычной практикой в имперской внешней политике.
МАИАСП № 14. 2022
Другими словами, восточный поход Нерона вполне мог состояться, правда, с опорой на силы своих союзников, лучше подготовленных для длительных переходов и боевых действий в суровых условиях Кавказских гор.
Кроме того, в это время в Кавказском регионе появляются новые варвары, которых римляне не могли не использовать для достижения своих планов. Речь идет об аланах, незадолго до указанных событий вышедших к границам Гиркании (Лысенко 2007: 221). Гиркания была не просто плодородной территорией к югу от Каспия, ограниченной на востоке рекой Оксом (Амударья). Важно то, что она была самой неспокойной областью Парфии. Гиркания сохранила волю к независимости (Tac. Ann., VI, 36, 4, 43, 2). Несмотря на то, что некоторые из парфянских царей были гирканского происхождения (Barrett et al. 2016: 97), в интересующее нас время Гиркания ведет борьбу с Парфией как союзница римлян. «Тогда же гирканы направили к римскому принцепсу посольство с просьбой о заключении с ними союза, указывая как на залог дружбы, что они сдерживают царя Вологеза. Корбулон при возвращении послов дал им охрану, чтобы, переправившись через Евфрат, они не были схвачены вражескими отрядами: их проводили до берегов Красного моря, откуда, избежав пределов парфян, они возвратились на родину» (Tac. Ann., XIV, 25). Хотя Тацит прямо не говорит о существовании союзного договора между Римом и Гирканией, можно допустить, что все же он был заключен (Амиранашвили 1938: 170). Следовательно, война парфян с гирканами сыграла не последнюю роль в политическом продвижении последних в сторону заключения мира с римлянами (Панов 2008: 279). В этой связи нападение Тиграна на зависимого от Парфии правителя Адиабены иногда рассматривают в контексте проримской политики (Халатьянц 1910: 278), предполагая даже, что оно было осуществлено по прямому приказу Нерона, в качестве помощи гирканам (Кудрявцев 1949: 52). Однако существует мнение, что довольно быстрое заключение мирного договора парфян с гирканами весной 61 г. (Tac. Ann., XV, 2—5; Dio Cass., LXII, 20, 2), противоречит такому развитию событий (Панов 2008: 287, прим. 8). Очевидно, что речь идет о временном перемирии, которое мало повлияло на взаимоотношения между Римом и Гирканией. Вполне возможно, что появление в Гиркании аланов (Лысенко 2007: 221) подняло контакты ее элиты с властями Римской империей на более высокий уровень, что и потребовало прекращение военных действий, т.к. они мешали передвижению новых союзников на запад, в сторону римских территорий и Понта.
Заметим, что аланы, организованные в отряды профессиональных конников— катафрактариев и возглавляемые представителями знатных родов (Наглер, Чипирова 1985: 87—91; Ščukin, Kazanski, Sharov 2006: 4), уже в достаточной мере проявили себя на востоке. Видимо не случайно соседствующая с Кангюем Яньцай была переименована в Аланья. По-видимому, в своей экспансии правители Кангюя опирались именно на аланские силы (Скрипкин 1990: 204—205; Габуев 1999: 87—88).
Сейчас трудно сказать, что представляли собой такие аланские отряды в археологическом отношении. Сложность здесь возникает по причине того, что аланы в своем движении на запад, вместе с собственным воинским комплексом, распространяли и некоторые элементы культур местных народов, как например, джеты-асарской культуры оседлого населения Кангюя. Аланские каменные склепы Северного Кавказа не случайно демонстрируют такое сходство (Левина 1996: 89; Снесарев 1983: 181). Тем более что именно с территории Кангюя аланы активно продвигались на запад. Однако здесь необходимо учитывать, что аланская культура в окончательном виде сложилась на Северном Кавказе в результате сложного этнического синтеза пришлых кочевников и местного населения. Вот почему полный комплекс наиболее ярких элементов аланской культуры (Т-образные катакомбы с курганами с ровиками) на других территориях, в том числе и в Средней Азии, отсутствует (Габуев,
МАИАСП № 14. 2022
Восточный поход Нерона: новое решение старой проблемы
Малашев 2009: 155—156). Следовательно, миграционный импульс с востока являлся решающим фактором для формирования аланской культуры.
Выявление его особенностей, включая количество миграционных волн с востока, позволяет многое объяснить в этногенезе аланского народа. Так, сейчас повышенный интерес вызывают обстоятельства заключения договора аланов с царем гирканов в ходе подготовки похода 72 г. против Парфии (Ios. Flav. De Bell. Jud., VII, 244—251). Не исключено, что союзные отношения между ними могли быть установлены еще во времена Нерона, когда аланы только вышли к границам Гиркании. Возможно, что уже тогда каким-то группам восточных кочевников удалось проникнуть далеко на запад через территорию Гиркании и других сопредельных областей. Это не должно вызывать удивления, учитывая заинтересованность римлян в новых союзниках для борьбы с парфянами. Если это так, то именно на них должны были ориентироваться те группы аланов, которые позже прокладывали себе путь на запад. Все это дает нам возможность прояснить некоторые загадочные обстоятельства похода 72 г., когда аланы, явно демонстрируя хорошее знание незнакомой по сути местности, довольно уверенно обошли с юга Каспийское море через территорию Гиркании и, успешно преодолев Кавказские горы, вторглись в степи Приазовья и Северного Кавказа (Ярцев, Зубарев 2020: 39—64).
Предположение о том, что аланы могли появиться на Кавказе еще до событий 72 г., косвенно подтверждают и некоторые другие источники. Так, упомянутое нами выше перемещение народов из районов черноморского побережья между современными городами Новороссийском и Сочи по направлению к Абхазии и далее на юго-восток (Plin. NH., VI, 12— 16) вполне могло состояться, в том числе и по причине появления в этих регионах новых выходцев с востока. Однако допуская возможность нашествия аланов, мы должны учитывать отсутствие приемлемого сухопутного пути вдоль северо-восточного черноморского побережья. Казалось бы, данное обстоятельство вместе с наличием непроходимых зарослей в прибрежной зоне не позволяет согласиться с предположением о появлении здесь каких-то враждебно настроенных варваров (Скаков и др. 2004: 68—69). Тем не менее, следует заметить, что Митридат VI Евпатор прошел на Боспор по кавказскому побережью Понта, где он предсказуемо столкнулся с теми же гениохами и ахейцами. Если первые приняли его, то вторые оказали сопротивление. Митридат VI Евпатор победил ахейцев — «обратил в бегство и преследовал». Подчеркнем, что царь Понта совершил «огромный путь в столь короткое время и прошел через столько диких племен и через так называемые «скифские запоры», до тех пор для всех непроходимые» (Аpp., XII, 102). Так что сомнения у исследователей в проходимости кавказского побережья Понта не должны более возникать.
Следующий источник, в котором сохранились сведения о пребывании пришлых варваров на прибрежной черноморской территории, и, особенно, в местах проживания пиратствующих гениохов, это написанная Валерием Флакком в 70—80-х гг. I в. н.э. поэма «Аргонавтика». Конечно, в данном художественном произведении автор демонстрирует достаточно вольное обхождение с имеющимся у него материалом. Стремясь произвести максимальное впечатление на читателей, поэт произвольно совмещает в своем произведении экзотические наименования народов и местностей. Тем не менее, было замечено, что Валерий Флакк, несмотря на творческое осмысление известного мифа об аргонавтах, все же включал в свое сочинение, реальные элементы этногеографической картины в регионе (Балахванцев 2009: 9— 10). Конечно, сейчас трудно сказать, насколько информация о неком Анавсии — царе аланов и гениохов (Габуев 1999: 9—10) соответствует исторической действительности. Судя по тексту, этот царь, который «выслал пылких аланов, за которыми вскоре последовал и сам, и свирепых гениохов» (Val. Flacc., Arg., VI, 42—43), на каком-то этапе возглавил не только аланов, но и
МАИАСП № 14. 2022
покоренных местных гениохов. Можно лишь с уверенностью сказать, что речь явно идет о неординарном событии. На это указывает тот факт, что здесь, в районе черноморского побережья севернее Колхиды, больше никто из античных авторов аланов не размещает. Более того, ближайший к нам поход аланов на Кавказ в 72 г. шел через перевалы, а не по территории прибрежной зоны (Ярцев, Зубарев 2020: 39—64). Если речь идет исключительно о кратковременном пребывании представителей этого народа в данном регионе, то, возможно, в поэме отразились события, связанные с проходом через прибрежную территорию аланского войска еще до похода 72 г. Так что уже не так однозначно воспринимается, казалось бы, устоявшееся мнение о якобы несостоявшемся восточном походе Нерона. Может быть, данная военная операция все же состоялась, но только с опорой на союзные варварские силы. Возможно, именно аланы должны были выйти в северокавказский регион, покорив народы северо-восточного побережья и обеспечив в дальнейшем защиту северных территорий новой провинции Понт, в состав которой решено было включить и Боспорское царство.
С образованием столь огромной провинции, во-первых, создавался мощный плацдарм для дальнейшего продвижения Римской империи на восток. Во-вторых, возникал серьезный военно-политический «противовес» власти Фарзоя и Инисмея в Северном Причерноморье с перспективой полной ликвидации данного царства2. В-третьих, указанная группировка аланов прошедшая Кавказские горы, вполне могла взять под контроль ряд перевалов для обеспечения беспрепятственного подхода к ним сородичей с востока. Возможно, что варвары первой миграционной волны и обеспечили беспрепятственный проход новой аланской орды на север в 72 г. (Ярцев, Зубарев 2020: 39—64).
По нашему мнению, такой подход к проблеме восточного похода Нерона поможет прояснить ситуацию с одним из самых сложных в изучении археологических погребальных памятников на юге России — «Золотым кладбищем». Сложность интерпретации расположенных на правом берегу Кубани богатых погребений I—III вв. н.э. под курганными насыпями заключается в своеобразном наборе их погребального инвентаря. С одной стороны, захороненные здесь тяжеловооруженные конные воины — катафрактарии по погребальному инвентарю отчетливо демонстрируют связь с востоком (Парфией, Алтаем, Северной Монголией, Хорезмом и т.д.), что вполне логично и лишний раз указывает на регион, откуда прибыли эти всадники (Гущина, Засецкая 1994: 10—12, 15, 17, 19, 20, 35). Однако, с другой стороны, наличие здесь римских вещей и вооружения (Гущина, Засецкая 1994: 29—31, 34, 36; Трейстер 2000: 157, рис. 1) позволяет сделать вывод, что перед нами не просто представители варварской военной аристократии с востока, а римские союзники, самым непосредственным образом связанные с имперским командованием (Гущина, Засецкая 1994: 38—39). Более того, судя по находке здесь фрагмента римского штандарта — головы кабана (Гущина, Засецкая 1994: 40), похоже, что всю эту варварскую армию возглавляли римские командиры. Во всяком случае, они могли координировать действия варварских союзников с римским командованием. При этом, судя по сохранившейся детали ножен римского меча—гладиуса типа «Майнц», относящегося ко времени Нерона (Масякин 2008: 188—191), эта армия вполне могла иметь прямое отношение к планам императора на восточных границах римского мира. Тем более что вещи из южной Италии I в. н.э. в погребениях «Золотого кладбища» (Гущина, Засецкая 1994: 30—36) сразу вызывают ассоциации с I Италийским легионом (Italica) сформированным Нероном для восточного похода (Паркер 2017: 109).
Обращает на себя внимание неординарность этого памятника, т.к. ни в одном другом могильнике Северного Причерноморья римского времени подобного сочетания вещей не
МАИАСП № 14. 2022
Восточный поход Нерона: новое решение старой проблемы обнаружено (Гущина, Засецкая 1994: 39). Их специфика свидетельствует о том, что люди, оставившие ранние богатые захоронения «Золотого кладбища», выполняли какое-то важное задание римлян. Исходя из места расположения погребений, очевидно, что они захватили и продолжали удерживать за собой огромные территории Северо-Восточного Причерноморья. Если это так, то, возможно, воины, оставившие после себя погребения «Золотого кладбища», решили поставленную командованием задачу восточного похода. Следовательно, несмотря на то, что, собранные для военной операции войска в 68 г. император «вернул с дороги для подавления восстания Виндекса» (Tac. Hist., I, 6), восточный поход все же состоялся. Силами отдельных военнослужащих I италийского легиона, основной состав которого отправился для формирования гарнизона в Лугдунум (Паркер 2017: 110) и союзных аланов, подошедших с востока, римлянам удалось создать мощный силовой центр в Северо-Восточном Причерноморье, противостоящий царству Фарзоя. При этом основная часть римских военнослужащих — участников похода могла отойти непосредственно на Боспор, где, судя по свидетельству Иосифа Флавия (Flav. Jos. Bell. Jud., II, 16, 4), какое-то время находились римские военнослужащие (Сапрыкин 2005: 54). В регионе установился Pax Romana, в рамках которого боспорские территории Северо-Восточного Причерноморья перешли под прямой контроль Рима (Чореф 2015: 114, 124, 125) или были присоединены к провинции Понт. Серьезные изменения стилистики боспорских монет при Нероне вполне подтверждают этот вывод (Чореф 2017: 103—104). Судя по сохранившейся печати из Херсонеса, Нерон изменил систему управления и в нем, возможно, подчинив его своему представителю (Чореф 2017: 103—105). Такое усиление римской власти при Нероне в Северном Причерноморье вряд ли было бы возможным без реальных успехов во внешней политике, что вновь косвенно указывает на восточный поход.
Таким образом, тщательный анализ сведений античных сочинений и данных археологии показывает, что восточный поход Нерона вполне мог состояться. И все это несмотря на то, что из-за мятежа Г. Юлия Виндекса собранные для этой военной операции легионы были развернуты обратно. Армия союзных аланов вместе с небольшой частью римских военнослужащих сумела покорить народы северо-восточного побережья Чёрного моря и выйти в северокавказский регион. Здесь она по римскому плану должна была обеспечить защиту северных территорий новой провинции Понт, в состав которой решено было включить Боспорское царство. По-видимому, в этом и заключалась главная цель восточного похода Нерона.
Список литературы Восточный поход Нерона: новое решение старой проблемы
- Амиранашвили А.И. 1938. Иберия и римская экспансия в Азии. ВДИ 4 (5), 160—173.
- Анохин В.А. 1999. История Боспора Киммерийского. Киев: Одигитрия.
- Балахванцев А.С. 2009. Сарматы I—IV вв. н.э. по данным античных авторов. В: Гарскова И.М. (ред.).
- Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. IV. Позднесарматская культура. Москва: Восточная литература, 9—14.
- Бгажноков Б.Х. 2016. Зихи и абазги в древней истории абхазо-адыгских племен. Археология и этнология Северного Кавказа 6, 40—48.
- Берулава Н., Папаскири З. 2013—2015. О нежданных откровениях и некоторых заблуждениях российского археолога. По поводу статьи Александра Скакова: «Абхазия в античности»: попытка анализа письменных источников». Исторические разыскания VIII—IX, 233—274.
- Бокщанин А.Г. 1966. Парфия и Рим. Ч. 2. Система политического дуализма в Передней Азии. Москва: МГУ.
- Болтунова (Амиранашвили) А.И. 1939. Восстание Аникета. ВДИ 2, 57—67.
- Габуев Т.А. 1999. Ранняя история алан (по данным письменных источников). Владикавказ: Иристон.
- Габуев Т.А., Малашев В.Ю. 2009. Памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа. Москва: Институт археологии РАН; Таус.
- Гайдукевич В.Ф. 1952. Боспорские города в свете археологических исследований последних двух десятилетий. В: Гайдукевич В.Ф. (ред.). Археология и история Боспора. Т. I. Симферополь: Крымиздат, 19—42.
- Горемыкина В.И. 1956. Политические взаимоотношения Боспора с Римом в первые века н.э. Ученые записки Могилевского государственного педагогического института III, 3—24.
- Гриневич К.Э. 1947. Херсонес и Рим. ВДИ 2, 228—237.
- Гущина И.И., Засецкая И.П. 1994. «Золотое кладбище» Римской эпохи в Прикубанье. Санкт-Петербург: Фарн.
- Дибвойз Н.К. 2008. Политическая история Парфии. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ.
- Кудрявцев О.В. 1949. Рим, Армения и Парфия во второй половине правления Нерона. ВДИ 3, 46—62.
- Латышев В.В. 1909. Краткий очерк истории Боспорского царства. В: Латышев В.В. (ред.). Pontika: изборник научных и критических статей по истории, археологии, географии с эпиграфике Скифии, Кавказа и греческих колоний на побережьях Чёрного моря. Санкт-Петербург: Императорская Академия наук, 60—128.
- Левина Л.М. 1996. Этнокультурная история Восточного Приаралья. I тысячелетие до н.э. — I тысячелетие н.э. Москва: Восточная литература.
- Лысенко Н.Н. 2007. Военно-политическая история аланов. Ранний период: II в. до н.э. — II в. н.э. Санкт-Петербург: Ариана.
- Манандян Я.А. 1946. Цель и направление подготовляемого Нероном Кавказского похода. ВИ 7, 66—74.
- Масякин В.В. 2008. Детали римского меча из «Золотого кладбища» (курган 20 у станицы Тифлисской). В: Зинько В.Н. (ред.). БЧ. Вып. IX. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Militaria. Керчь: Крымское отделение Института востоковедения НАН Украины, 188—191.
- Меликишвили Г.А. 1959. К истории древней Грузии. Тбилиси: Академия наук Грузинской ССР.
- Наглер А.О., Чипирова Л.А. 1985. К вопросу о развитии хозяйственных типов в древних обществах. В: Исаенко А.В. (ред.). Античность и варварский мир. Орджоникидзе: СОГУ, 87—91.
- Панов А.Р. 2008. Армянский царь Тиридат I: взаимоотношения с Римом и проблемы оформления его власти. ПИФК 21, 276—288.
- Панов А.Р. 2011. Северо-Восточные рубежи Римской империи. Взаимоотношения Рима с государствами Северного Причерноморья и Закавказья во II в. до н.э. — начале II в. н.э. Saarbrücken: LAP LAMBERT.
- Панов А.Р. 2012. Нерон и статус Боспора в римско-боспорских отношениях. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского 5(1), 179—184.
- Паркер Г.М. 2017. История легионов Рима. От военной реформы Гая Мария до восхождения на престол Септимия Севера. Москва: ЗАО Центрполиграф.
- Сапрыкин С.Ю. 2005. Энкомий из Пантикапей и положение Боспорского царства в конце I — начале II в. н.э. ВДИ 2, 45—81.
- Скаков А.Ю. 2013. Абхазия в античности: попытка анализа письменных источников. Ученые записки Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья ИВ РАН I. Абхазия, 23—75.
- Скаков и др. 2004: Скаков А.Ю., Джопуа А.И, Шамба Г.К. 2004. Новый могильник колхидской культуры в Бзыбской Абхазии. Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа IV, 66—84.
- Скрипкин А.С. 1990. Азиатская Сарматия: Проблемы хронологии и ее исторический аспект. Саратов: Саратовский университет.
- Снесарев Г.П. 1983. Хорезмские легенды как источник по истории религиозных культов Средней Азии. Москва: Наука.
- Тревер К.В. 1953. Очерки по истории культуры древней Армении (II в. до н.э. — IV в. н.э.). Москва; Ленинград: АН СССР.
- Трейстер М.Ю. 2000. К находкам металлических деталей римского военного костюма и конской сбруи в Северном Причерноморье. РА 2, 156—164.
- Туаллагов А.А. 2014. Аланы Придарьялья и закавказские походы I—II вв. Владикавказ: ИПЦ СОИГСИ ВНЦ РАН и РСО-А.
- Фролова Н.А. 1968. Монетное дело Рискупорида II. НиЭ VII, 43—67.
- Халатьянц Г.А. 1910. Очерк истории Армении в связи с общим ходом событий в Передней Азии. ПериодI: Древняя история. Москва: Типо-литография Ю. Венер.
- Цветаева Г.А. 1979. Боспор и Рим. Москва: Наука.
- Чореф М.М. 2015. К вопросу о времени и обстоятельствах появления изображений пятиколонного храма на монетах боспорского чекана. Stratum plus 6, 111—130.
- Чореф М.М. 2017. Новая античная свинцовая печать из Херсонеса Таврического. Stratum plus 4, 99—114.
- Чореф М.М. 2018. Надчеканки на статерах царя Фарзоя как источники исторической информации. В: Синика В.С., Рабинович Р.А. (ред.). Древности. Исследования. Проблемы. Сборник статей в честь 70-летия Н.П. Тельнова. Кишинев; Тирасполь: Stratum plus.
- Шмалько А.В. 1990. Восточный поход Нерона. Античный мир и археология 8, 84—92.
- Ярцев С.В. 2014: Северное Причерноморье в римский период и проблема готской экспансии. Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
- Ярцев С.В. 2016. Сармато-иранская династия на Боспоре. В: Болгов Н.Н. (ред.). Кондаковские чтения V. Античность — Византия — Древняя Русь. Белгород: БелГУ, 25—38.
- Ярцев С.В., Бутовский А.Ю. 2018a. Военно-политическая стратегия на северо-восточных рубежах Римской империи во время правления императора Нерона. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия Гуманитарные науки 3/2, 56—64.
- Ярцев С.В., Бутовский А.Ю. 2018b. К вопросу о восточном походе императора Нерона. ПИФК1, 146—151.
- Ярцев С.В., Зубарев В.Г. 2020. Римская военно-политическая стратегия в Северном Причерноморье во время правления императора Веспасиана. Tractus Aevorum 7 (1), 39—64.
- Barrett et al. 2016: Barrett A.A., Fantham E., Yardley J.C. 2016. The Emperor Nero: A Guide to the Ancient Sources. Princeton; New York: Princeton University Press.
- Champlin E. 1990. Nero Reconsidered. New England Review 19 (2), 97—108.
- Champlin E. 2003. Nero. Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press.
- Griffin M.T. 1987. Nero. The end of a Dynasty. New York: Routledge.
- Guzman J.O. 2014. Rex armeniis datus? Nero, Parthia and the «Armenian Question». In: Antela-Bernârdez Jordi Vidal B. (ed.). Central Asia in Antiquity: Interdisciplinary Approaches. London: Publishers of British Archaeological, Reports International Series 2665, 85—98.
- Hammond M., 1934. Corbulo and Nero's Eastern Policy. Harward Studies in Classical. Philogy 45, 81—104.
- Henderson B.W. 1903. Nero — The Life and Principate of the Emperor Nero. London: Methuen & Co.
- Lerouge Ch. 2007. L'image des Parthes dans le monde gréco-romain. Du début du Ier siècle av. J.-C. jusqu'à la fin du Haut-Empire romain. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- Poirot J.J. 2020. A Review Of Perceptions Of Classical Armenia: Romano-Parthian Relations, 70 Bc-Ad 220. Journal of critical literature and humanities 20 (2), 291—311.
- Rocca Е. 2017. Staging Nero: Public Imagery and the Domus Aurea. In: Bartsch Sh., Freudenburg K., Littlewood C. (eds.). The Cambridge Companion to the Age of Nero. Cambridge: Cambridge University Press, 195—212.
- Schur W. Die 1923. Orientpolitik des Kaisers Nero. Beiheft. Leipzig: Dietrich.
- Scukin M., Kazanski M, Sharov O. 2006. Des les Goths aux huns: Le nord de la mer noire au Bas-Empire et a Iepoque des grandes migrations. Oxford: John and Erica Hedges Ltd.
- Stark F. 1966. Rome on the Euphrates. London: John Murray.