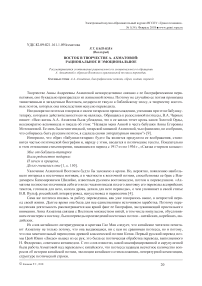Восток в творчестве А. Ахматовой: рациональное и эмоциональное
Автор: Кашаева Рамиля Тахировна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 1 (54), 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается соотношение рационального и эмоционального в обращении А. Ахматовой к образам Востока в оригинальной поэзии и переводах.
А.а. ахматова, биографические истоки, образ, мотив, перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/14822651
IDR: 14822651 | УДК: 82.09:821.161.1.09Ахмато6а
Текст научной статьи Восток в творчестве А. Ахматовой: рациональное и эмоциональное
Творчество Анны Андреевны Ахматовой непосредственно связано с ее биографическими перипетиями, оно буквально произрастало из жизненной почвы. Поэтому не случайно ее поэзия пронизана таинственным и загадочным Востоком, недаром ее тянуло к библейскому эпосу, к творчеству восточных поэтов, которых она впоследствии искусно переводила.
Неоднократно поэтесса говорила о своем татарском происхождении, упоминая при этом бабушку-татарку, которая в действительности ею не являлась. Обращаясь к родословной поэтессы, В.А. Черных пишет: «Всю жизнь А.А. Ахматова была убеждена, что в ее жилах течет кровь ханов Золотой Орды, неоднократно вспоминала и писала об этом: “Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Мотовиловой. Ее мать была чингизидкой, татарской княжной Ахматовой, чью фамилию, не сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, я сделала своим литературным именем”» [9].
Интересно, что образ «бабушки-татарки» будто бы является продуктом ее воображения, становится частью поэтической биографии и, наряду с этим, вводится в поэтические тексты. Показательно в этом отношении стихотворение, писавшееся в период с 1917-го по 1936 г., «Сказка о черном кольце»:
Мне от бабушки-татарки
Были редкостью подарки;
И зачем я крещена,
Долго гневалась она [1, с. 150].
Увлечение Ахматовой Востоком будто бы заложено в крови. Но, вероятно, появлению наибольшего интереса к восточным мотивам, а в частности к восточной поэзии, способствовал ее брак с Владимиром Казимировичем Шилейко, известным русским востоковедом, поэтом и переводчиком. «Ахматова полностью подчинила себя его воле: часами писала под его диктовку его переводы ассирийских текстов, готовила для него, колола дрова, делала для него переводы», о чем упоминает в своей статье В.Я. Вульф, российский литературовед, искусствовед и переводчик [4].
Сама же поэтесса взялась за работу переводчика, как уже говорилось выше, в непростой период своей жизни. Долгое время она была для нее единственным источником заработка. Поэтому переводческая деятельность рассматривается как яркий факт ее биографии, заслуживающий пристального внимания. Анна Ахматова связана с Востоком множеством нитей, в том числе импульсом, обусловившим ее интерес к востоку, были переводы произведений восточных поэтов – китайских, корейских, индийских.
Из слов китайского литературоведа и критика Гао Ман следует, что китайские читатели почитают Ахматову не только потому, что она выдающаяся, ни с кем не сравнимая поэтесса, но и потому, что она замечательный переводчик древней классической поэзии Китая. Первый русский перевод поэмы Цюй Юаня «Лисао» вышел из ее рук, это была ее поэтическая обработка перевода, выполненного Н. Федоренко, советским китаеведом. С его слов известно, какой квалифицированной и скрупулезной была работа Ахматовой над переводом с китайского, что поэтесса задавала несчетное количество вопросов об истории китайской поэзии, эволюции китайского стихосложения, литературной композиции, структуре поэтической строки.
К переводческой деятельности Анна Андреевна отнеслась более чем ответственно, она настолько тщательно подбирала лексический материал, чтобы ни одно слово, неловко употребленное, не могло нарушить гармонии и мира художественного произведения, воссозданного рукой мастера. Но не менее важно и другое: поэму «Лисао» Ахматова переводила в те годы, когда переживала за свою страну и свой народ, поэма затронула сокровенные сердечные струны, поэтому столь содержательна эмоциональная сторона перевода.
Ахматова переводила корейских поэтов, и на эти переводы повлиял опыт, накопленный в ходе китайских переводов. Маленькая переводная поэма Чон Чхоля «Забрел в Сонсан однажды некий странник» интересна по своему звучанию, она, не имея рифмовки, с легкостью воспринимается на слух и воспроизводится в речи. Перевод другой небольшой поэмы этого же автора тоже по-своему уникален. Что касается событийной стороны произведения, то в ней повествуется о любви корейской женщины далекого от нас XVI в. Поэма созвучна собственным стихотворениям Ахматовой.
Один из разделов переводной книги поэтессы «Из индийской поэзии» состоит из стихотворений Рабиндраната Тагора, поэта и близкого (по духу, по восприятию мира, по сюжетной линии стихотворений) и далекого (в географическом отношении и в отвлеченности, абстрактности поэзии) ей. В переводе Ахматовой многие стихотворения Тагора, например такие как «Чисто», «Золото любви», «Беспокойная», «Новый год», «Юность» и многие другие, приобрели ясность и конкретность, качества, не свойственные перу индийского поэта, оперирующего больше к многочисленным рассуждениям и туманным высказываниям.
В древнеегипетской поэзии Ахматова также встретилась с близким ей мироощущением, благодаря чему строки, появившиеся в стародавние времена, ожили под ее рукой. К работе над переводами древнеегипетской лирики Анна Андреевна приступила в начале 1965 г., предпоследнего в ее жизни. И снова зазвучали вечные темы, волнующие человечество из года в год, из века в век. Так в одном из переводных стихотворений мы встречаемся с темой любви, живущей в вечности. В древнеегипетской лирике поэтессы наиболее созвучным оказался образ женщины как властительницы дома и царства.
Обращение к переводам часто было обусловлено у Ахматовой житейскими обстоятельствами, однако и в своих переводах она остается великим художником. По словам С. Липкина, Анна Ахматова присутствует в каждой строке перевода, подобно тому, как оригинальный автор присутствует в каждой фразе своего героя. Одним из определяющих в процессе работы поэтессы явилось то свойство, которое В.Я. Виленкин определил как «стимул точности в творчестве Анны Ахматовой» [3].
Но еще до переводов древнеегипетских текстов в жизни Анны Андреевны уже возникает египетский след. Во-первых, ее муж Николай Гумилев был страстно увлечен Египтом, во-вторых, в молодости во время своего пребывания в Париже Ахматова и Гумилев познакомились с итальянским художником Амедео Модильяни, который также был сильно увлечен Египтом. Из воспоминаний самой Ахматовой о Модильяни: «В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверял, что все остальное (toutlereste) недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захвачен великим искусством Египта» [2]. В своих «Записных книжках», над которыми Анна Андреевна работала в течение 1958– 1966 гг., она напишет: «В Лувре (1911) я была насмерть прикована к Египту. Египтянкой – царица и плясунья – изображал меня рисовавший [меня] тогда Амедео Модильяни» [5, с. 268].
Впоследствии в черновом варианте «Поэмы без героя», где возникает образ итальянского художника, поэтесса назовет себя египтянкой:
В черноватом Париж тумане,
И наверно, опять Модильяни
Незаметно бродил за мной.
У него печальное свойство
Даже в сон мой вносить расстройство
И быть многих бедствий виной.
Но он мне – своей Египтянке…
Что играет старик на шарманке,
А под ней весь парижский гул,
Словно гул подземного моря, -
Этот тоже довольно горя
И стыда и лиха хлебнул [1, с. 388].
Но не только Египет привлек внимание Ахматовой. В годы Великой Отечественной войны она была эвакуирована из столицы и в 1941 г. прибыла в Ташкент, который, несмотря на все военные невзгоды, покорил сердце поэтессы своей восточной экзотикой и загадочностью. Однажды, будучи уже в Ташкенте, она написала следующие строки:
Заснуть огорченной,
Проснуться влюбленной,
Увидеть, как красен мак.
Какая-то сила
Сегодня входила
В твое святилище, мрак!
Мангалочий дворик,
Как дым твой горек
И как твой тополь высок...
Шехерезада
Идет из сада...
Так вот ты какой, Восток! [Там же, с. 209].
Даже в тяжелые годы своей жизни мир Востока воспринимался поэтессой глубоко и необычайно. По мнению И. Служевской, «одной из наиболее важных и “объемных” граней в образе ахматовской Азии является природа, воплощенная поэтом во всей своей многоликой прелести. Помимо зрительного, наиболее мощного пласта впечатлений, читателю дано ощутить вкус “сухого винограда”, вдохнуть “благовонный дым фиалок”, узнать, как “отраден шум воды в тени древесной”» [8]. Удивительно нарисованы Ахматовой явления цветущей природы, будто оживающей под ее пером, это что-то чрезвычайно прекрасное и необъятное («библейских нарциссов цветенье» и «царственный карлик – гранатовый куст», и «персик зацвел, а фиалок дым все благовонней», и «зацветает ветка над стеною»). Все это вмещается в одно емкое понятие – «красота Востока», присущая всем стихотворениям ташкентского периода.
Земля Узбекистана стала для поэтессы не только чудотворным местом, она, возможно, на некоторое время стала Родиной, которая с радушием смогла принять посланницу России. Именно поэтому Ахматова никогда не чувствовала себя на чужбине и не хотела слышать этого от других:
Третью весну встречаю вдали
От Ленинграда.
Третью? И кажется мне, она
Будет последней,
Но не забуду я никогда,
До часа смерти,
Как был отраден мне звук воды
В тени древесной.
Персик зацвел, а фиалок дым
Все благовонней.
Кто мне посмеет сказать, что здесь
Я на чужбине?! [1, с. 210].
Ахматова покинет Ташкент в 1944 г., но память о нем как о душевном пристанище не иссякнет никогда. Ее ташкентская лирика явилась внутренним голосом самой поэтессы, для которой Восток стал источником вдохновения.
Жизненный и творческий пути Ахматовой, безусловно, сплетены воедино. Именно биографическое начало становится неиссякаемым источником зарождения восточных мотивов и образов в лирическом творчестве великой поэтессы.
Список литературы Восток в творчестве А. Ахматовой: рациональное и эмоциональное
- Ахматова А.А. Собрание сочинений: в 6 т. (т. 7, 8 доп.). М., 1998. T 1.
- Ахматова А. Амедео Модильяни . URL: http://www.bibliotekar.ru/k-Modigliani/2.htm (дата обращения: 10.10.2017).
- Виленкин В. Стимул точности в творчестве Анны Ахматовой//Вопросы литературы. 1983. № 6. С. 144-176.
- Вульф В. Анна Ахматова. Северная звезда . URL: http://www.liveinternet.ru/users/barucaba/post117591605/(дата обращения: 10.10.2017).
- Записные книжки Анны Ахматовой (1958-1966)/сост. К.Н. Суворова. М., 1996.
- Кихней Л.Г. Поэзия А. Ахматовой: Тайны ремесла. М., 1997.
- Миры образов -образы мира: справочник по имагологии/пер. с нем. М.И. Логвинова, Н.В. Бутковой. Волгоград, 2003. 2-е изд., доп.
- Служевская И. «Так вот ты какой, Восток!.» Азия в лирике А. Ахматовой ташкентской поры . URL: http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/kritika/sluzhevskaya-tak-vot-ty-kakoj-vostok.htm (дата обращения: 10.10.2017).
- Черных В.А. Родословная Анны Андреевны Ахматовой . URL: http://www.akhmatova-rgali.ru/index.php?view=articles &t=art2 (дата обращения: 10.10.2017).