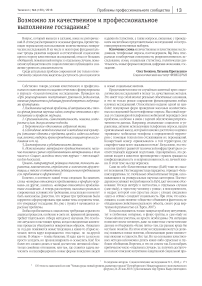Возможно ли качественное и профессиональное выполнение госзадания?
Автор: Божков Олег Борисович, Протасенко Татьяна Захаровна
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: Проблемы профессионального сообщества
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
Вопрос, который вынесен в заглавие, вовсе не риторический. В статье рассматриваются основные факторы, препятствующие нормальному использованию количественных эмпирических исследований. В их числе и некоторые фундаментальные тренды развития мировой и отечественной социологии: крен в сторону качественных исследований, отказ от больших обобщений, повышенный интерес к отдельным случаям, повышение публицистичности социологических публикаций и снижение уровня их доказательности. Среди актуальных проблем современной (не только отечественной) социологии, выделены доступность для социологов надежной статистики, а также вопросы, связанные с проведением масштабных представительных исследований и построения репрезентативных выборок.
Количественные и качественные исследования, телефонные опросы, постмодернизм, генеральная и выборочная совокупности, репрезентативность исследования, семья, социальная статистика, политическая деятельность, новые формы поведения, цифровая экономика, госзадание
Короткий адрес: https://sciup.org/142222946
IDR: 142222946
Текст научной статьи Возможно ли качественное и профессиональное выполнение госзадания?
Конечно, в контексте нашей темы следовало бы заменить слова: «которые относятся к проблематике и профилю журнала», на другие, а именно, «которые относятся к проблематике госзадания» . А теперь рассмотрим, насколько реальны в современных условиях эти требования, и насколько они могут быть выполнены. Допустим, что первые три требования были корректно сформулированы при заявке темы и приняты теми, кто утверждает госзадание. Но, уже с пункта 4 начинаются серьезные проблемы.
Любая проблематика в социологии, требующая серьезного анализа процессов, особенно в свете их временной динамики, требует тщательного отбора методов ее изучения. Это тем более актуально в настоящее время, когда повседневные жизненные процессы убыстряются невероятным образом, буквально за год-два появляются новые тенденции, а какие-то старые исчезают, потом вдруг возрождаются эти старые, но на другой основе. В общем — темпы бешеные. И надо как-то за всем не просто уследить, но проанализировать и осмыслить. Как? Тем более это сложно делать в такой достаточно интимной области как семейные отношения, или там, где ставится задача вычленить и классифицировать новые формы поведения людей
-
и новые социальные явления.
Представляется вовсе не случайным заметный крен социологических исследований в пользу т.н. качественных методов. Это имеет под собой вполне реальные объективные основания, и это не только резкое сокращение финансирования любых научных исследований. Относительно недавно одной из наиболее популярных форм проведения массовых количественных исследований были телефонные опросы. Массовый переход от стационарной телефонии к мобильной порождает свои проблемы, особенно в связи с задачей обеспечения репрезентативности данных. Например, итальянские социологи и управленцы, активно использующие телефонные опросы, нашли оригинальный выход, который позволил достаточно надежно «привязать» мобильные телефоны к определенной территории с помощью технологии отслеживания их перемещений. Конкретный номер «привязывался» к той территории, где смартфон чаще всего оказывался ночью2. Безусловно, эта технология требует развитой технической инфраструктуры и соответствующей кадровой подготовки. Одновременно, это решение входит в известное противоречие с правом граждан на конфиденциальность и неприкосновенность их личной жизни. К этой теме мы еще вернемся.
Сами по себе «Качественные методы» (КаМ) тоже не спасают положения. Постмодернистская парадигма, отрицает «большие нарративы», т.е. глобальные объяснительные теории, основывающиеся на универсальных научных категориях. Постмодернизм усиливает востребованность КаМ, дает им новое обоснование. Отсюда интерес к частностям, к отдельным случаям (case study), к «простому человеку с улицы», к повседневности, в недрах которой они (простые люди с улицы) ежедневно «здесь и сейчас» созидают социальность. При этом, что немаловажно, и само понятие «общество» объявляется фантомом, не обладающим свойствами реального объекта, своего рода виртуальной реальностью (А. Турен, 2007).
Когда исследователь только нащупал проблему интуитивно, тут и глубинные интервью, и фокус-группы, и case-study не только вполне уместны, но просто необходимы. Эта интуиция позволяет иначе взглянуть даже на известные статистические данные и обнаружить «белые пятна» там, где раньше вроде бы все было понятно. На этом этапе исследования могут (и должны) появиться новые понятия, обозначающие ранее неизвестные явления и сущности. Все так. Но на основании качественных методов невозможно делать какие-либо серьезные и глубокие обобщения. Впрочем, и это не совсем так. Если набрать критическое число «отдельных случаев», т.е. получить достаточно полное описание интуитивно нащупанной социальной про- блемы, более или менее широкие обобщения возможны. Но для этого необходимо обладать немалым терпением и настойчивостью, а также проявить умение построить непротиворечивую и проверяемую классификацию этих многих «случаев», особенно, если достигнута уверенность, что всякий новый, дополнительный случай, зафиксированный исследователем, не является более уникальным, но лишь пополняет образовавшуюся «статистику случаев».
А дальше, ну никак не обойтись без традиционного количественного (и желательно — репрезентативного) исследования, т. е. использования количественных методов (КоМ). Хотя бы для того, чтобы оценить масштаб нового явления. Но тут мы и сталкиваемся с теми объективными причинами, которые выдвинули на передний план именно качественные методы. Они оказываются, в каком-то смысле, более доступны (многие считают, что дешевле), но отнюдь не более надежны и достоверны. Впрочем, если добиваться полноты описания множества «отдельных случаев», то качественное исследование окажется существенно дороже самого масштабного количественного. В этом самом месте социология делает пять (а может быть и больше) шагов назад и возвращается к доконтовскому состоянию философских спекуляций, которые невозможно проверить научными методами, но остается принимать на веру.
Нельзя сказать, что эта проблема не осознается представителями социологического сообщества. Осознается, но как бы обходится стороной — не становится предметом эксплицитной артикуляции. Более того, лелеются надежды на то, что в скором времени можно будет вообще обойтись без классических социологических опросов. Эти надежды связаны с т.н. Big Data. Конечно, сверхвысокие темпы развития компьютерных и цифровых технологий сильно впечатляют. И все-таки, даже Big Data вряд ли станут для социологии, как науки об обществе, панацеей от всех бед.
В итоговом отчете ВЦИОМа о пятой Грушинской конференции, которая состоялась 12-13 марта 2015 года и проходила под девизом «Большая социология: расширение пространства данных», в частности, было написано:
«Когда появляется новое слово — появляется надежда на чудо» — философски заметил А. Ослон. Так что же такое «большие данные»? Как сказал В. Федоров: «Big Data — это соблазн, фейк, ложный путь или огромная возможность?»
Интерес к Big Data все более очевиден не только в исследовательском секторе, но и в коммерческих проектах»3. И далее: «По мнению И. Задорина, большая социология — это прежде всего не большие данные, а большое социологическое сообщество, «мультидисциплинарность и многометодичность»4.
А что такое Big Data в разрезе социологии семьи? Может быть, более информативны всяческого рода истории семейной жизни, которые публикуются в блогах? Но как тут отделить правду от лжи и фантазии?
Термин Big Data объединяет вполне специфические — и преимущественно чисто инструментальные — данные, которые собираются разными структурами для своих «внутренних» целей. Как-то: кассовые данные о покупках в супермаркетах, особенно, если покупатель рассчитывается банковской картой; обращения граждан к банкоматам; видеонаблюдения служб дорожной полиции, платежи за разные услуги через интернет и т.п. Здесь приведены именно те случаи, когда каждый из тех, кто попал в базы данных этих структур, может быть надежно идентифицирован. Т.е. каждый гражданин оказывается совершенно прозрачным перед этими структурами и, соответственно, перед государством. Про каждого из нас в этих базах данных огромное число сведений — мы просвечены, как в рентгеновских лучах. Плюс к тому, многие уже успели «засветиться» в социальных сетях и на различных сайтах, где косвенно сохранились наши персональные данные через электронные адреса домашних и служебных компьютеров. Это тоже один из компонентов того, что именуется Big Data.
И все бы ничего. Ведь принят закон, регламентирующий передачу персональных данных, который вроде бы защищает наши права в этом отношении. Но… Так как ведущими в современном российском государстве являются, прежде всего, силовые структуры, в том числе, МВД и ФСБ, которые имеют приоритетный доступ к любой, даже самой закрытой и защищенной информации, то никакой управы на них нет и быть не может — это же вопросы национальной (!) безопасности. Здесь возникает серьезнейшая этическая (и политическая) проблема прав человека на конфиденциальность и неприкосновенность его личной жизни. А уж эта проблема никем не артикулируется и вообще не обсуждается, хотя сама по себе тема прав человека нынче — одна из самых популярных и дискутируемых. За и против прав сообществ ЛГБТ будем бороться с пеной у рта, а неотъемлемое право обычного человека на личную жизнь — это, вроде бы как мелковато.
Если вернуться к т.н. «Большим данным», то стоит отметить, что их содержание лишь в очень малой степени «покрывает» поле собственно социологической (и социально-экономической) проблематики: спектр профессиональных социологических и социально-экономических исследований, которые могут быть реализованы на этой основе, крайне узок. А актуальность этого спектра, с точки зрения научного познания природы и тенденций развития современного общества, весьма проблематична.
Одно из несомненных достоинств количественных эмпирических исследований составляет идея репрезентативности данных. Она эффективно применима лишь к определенным, четко артикулированным, фрагментам (элементам) общества, а точнее — его социальной структуры. Именно отсюда сформировалось научное представление о выборке и выборочных совокупностях, которые должны непременно адекватно отображать генеральную совокупность, т.е. тот определенный фрагмент общества, который подлежит эмпирическому исследова-нию5 .
Беспредельное расширение объема генеральной совокупности превращает социологическое исследование в бессмысленное измерение «средней температуры по больнице». Мы имели неоднократную возможность убедиться в этом. В конце 1980-х — в начале 1990-х годов в Петербурге довольно острой оказалась проблема т.н. «точечной» застройки, вызывавшей бурю протестов у населения. Когда мы проводили опросы репрезентирующие «все взрослое население города», эта проблема вообще никак не проявлялась в результатах исследований. Более пристальное внимание к ней позволило увидеть, что эта проблема была чрезвычайно актуальна лишь для тех людей, кто жил примерно в радиусе 500 метров от зон «точечной застройки». Уже для тех людей, которые жили на расстоянии 600700 метров, эта проблема уже не была актуальной. И только «адресные» (такие же «точечные») опросы позволили понять и оценить и масштаб, и силу накала страстей вокруг этой проблемы. При этом важно именно то обстоятельство, что для «точечных» обследований в каждом конкретном случае очень точно (буквально по карте города) определялась «генеральная совокупность» и выборка строилась тоже с учетом конкретного места жительства респондентов.
Определение состава генеральной совокупности отнюдь не формальный, но сугубо содержательный вопрос. У нас нет сомнений в профессионализме сотрудников таких центров изучения общественного мнения, как ФОМ, ВЦИОМ или Левада-Центр. Но выборки, которые включают более сотни населенных пунктов, представляющих половину (или более) субъектов РФ, с нашей точки зрения, — это нонсенс. Это чисто формалистский подход и к определению генеральной совокупности, и к построению выборки. И даже когда сообщается, что погрешность выборки не превышает величину статистической погрешности на уровне вероятности 0,95, это ни о чем не говорит. Дело в том, что оценка репрезентативности ведется на основании элементарных индивидуальных социально-демографических признаков (пол, возраст, образование). Но при этом сильно искажаются территориальные и поселенческие параметры генеральной совокупности. В частности, городов-миллионеров в стране не более 15, при общей численности населенных пунктов более 150 тысяч (т.е. 0,01%). Но среди населенных пунктов, попадающих в эти выборки, именно «миллионеры «стабильно составляют порядка 7%. В то время как деревень и сел в России более 50 тысяч (около 30%), но в выборках они составляют менее 0,5%. Так как именно сельские жители оказываются самым депривированными и по уровню, и по качеству жизни, то уровень бедности и депривированности в целом по стране регулярно (и значительно) занижается.
И, наконец, еще одна проблема. Опросные центры, обслуживающие непосредственно Президента (ФСО, структуры, связанные с администрациями субъектов федерации) имеют доступ к более или менее надежной статистике для того, чтобы грамотно строить и оценивать качество выборки. (Кстати, именно эти структуры используют алгоритмы, схожие с теми, что использовали социологи г. Турина, чтобы обеспечить репрезентативность опросов по мобильным телефонам). Но подавляющее большинство социологов России, особенно в провинции, доступа к статистике не имеют вообще. В советское время достаточно было обеспечить один телефонный звонок из соответствующего кабинета ОК или РК КПСС, чтобы стату-правление предоставило социологам все необходимые данные. Однако сегодня официальная статистика тоже практически отсутствует, особенно социальная, да и экономическая почти вся оказывается «закрытой» — коммерческая, видите ли, тайна. А ведь качество репрезентативной выборки самым прямым образом связано с надежностью статистики, обеспечивающей точную оценку её (выборки) основы.
Какую бы тему плана научных исследований нашего института, входящую в т.н. госзаказ, не взять, ни по одной из них у нас нет доступа к статистике, которой мы могли бы доверять. Сбор надежных и полных статистических данных — предмет особого исследования (или расследования), требующий разработки особой, весьма изощренной методики и методологии. Мы уж не говорим о необходимости финансирования таких разработок.
Конечно, нынче существует немало международных и отечественных тематически организованных баз данных социологических исследований, построенных на довольно жесткой стандартизации самих данных. Но… в международных базах, как правило, отсутствуют данные по России. Да и сами эти базы заметно «отстают от времени», самая «свежая» эмпирическая информация в них — трех-четырех-пятилетней давности. И это при безумной скорости социальных и экономических изменений. Проблемой является и включение результатов собственных эмпирических исследований в эти базы.
В свете изложенного выше, вопрос, вынесенный в заголовок, обретает статус вполне реальной и тревожной проблемы выживания эмпирической научной социологии. Чтобы найти пути её решения, необходимы консолидированные усилия всего социологического сообщества. В настоящий момент, когда негосударственные социологические организации одна за другой попадают в реестр «иностранных агентов»; а государственные, — практически лишенные нормального финансирования (т.е. необходимого и достаточного для проведения исследований), — озабочены лишь сохранением штатной численности и научной самостоятельности, — это тоже серьезная проблема. Хотя и для решения этих сверхнасущных проблем тоже необходима определенная солидарность не только между социологами, но — шире — между всеми, кто занимается наукой в России.
Необходимо отметить новые идеи наших законодателей, принявших закон, в котором определение понятия «политическая деятельность» включает в себя и социологические исследования. И это обстоятельство становится дополнительной угрозой для существования представительных количественных исследований.
Однако не думаем, что ситуация совсем безвыходная. Наши коллеги Н.А. Нечаева и О.Н. Бурмыкина в определенном смысле работают на будущее, занимаясь разработкой и пилотированием методик для глубоких количественных исследований семейных отношений и гендерных представлений молодежи. В частности, операционализируют понятия, разрабатывают обобщенные показатели — индексы. И, что самое важное, — апробируют их в процессе пилотажа. Для пилотажа методик (не только сбора первичных данных, но и методов их анализа) 130 респондентов вполне достаточно, хотя, конечно, никакие содержательные выводы на этих данных невозможны. Для реализации полноценного применения этих, уже апробированных, методик, т.е. масштабных количественных репрезентативных исследований, безусловно, необходимо солидное финансирование, которое надо неустанно искать.
Да и наши разработки также носят в основном пилотажный характер. Предмет наших исследований в рамках госзаказа — новые формы поведения, — естественно, не обеспечены надежной статистикой в силу новизны (и определенной неустойчивости) этих форм поведения. В частности, нет надежной статистики даже о распространенности обращения людей к различным компьютерным приложениям, об использовании дебетных и кредитных банковских карточек, а также разнообразных «скидочных или бонусных» карт.
Одним из важных результатов нашей работы могут стать рекомендации для органов государственной статистики по комплексу показателей для статистического учета, касающихся, в частности, распространенности цифровых технологий в повседневной жизни людей.
Решение названных проблем требует различных уровней компетенции. Одни могут быть решены исключительно на федеральном уровне; другие — на ведомственном и/или региональном; решение третьих целиком в нашей компетенции. Безусловно, к первому уровню относятся вопросы, связанные с повышением полноты, надежности и доступности статистики для социологов, а также вопросы адекватного и своевременного финансирования научных исследований. Ко второму уровню компетенции мы бы отнесли вопросы планирования, материально-технического обеспечения исследовательского процесса, включая тиражирование полевых документов; оплату расшифровки качественных данных, наконец, адекватную содержательную, а не формальную оценку полученных исследователем результатов. А что касается методологической и методической культуры, профессиональной консолидации и взаимной поддержки, творческого подхода к решению научных проблем — это сфера нашей индивидуальной и коллективной компетенции.
Список литературы Возможно ли качественное и профессиональное выполнение госзадания?
- V Международная социологическая Грушинская конференция. Итоговый отчет от ВЦИОМа. Социологический журнал, 2015, том 21, ? 1, с.179