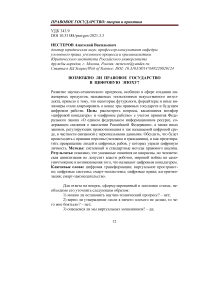Возможно ли правовое государство в цифровую эпоху?
Автор: Нестеров Анатолий Васильевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Общетеоретические и исторические проблемы формирования правового государства
Статья в выпуске: 3 (65), 2021 года.
Бесплатный доступ
Развитие научно-технического прогресса, особенно в сфере создания инженерных продуктов, называемых технологиями искусственного интеллекта, привело к тому, что некоторые футурологи, форсайтеры и иные визионеры стали алармировать о конце эры правовых государств и будущем цифровом рабстве. Цель: рассмотреть вопросы, касающиеся метафор «цифровой концлагерь» и «цифровое рабство» с учетом принятия Федерального закона «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации», а также иных законов, регулирующих правоотношения в так называемой цифровой среде, в частности связанной с персональными данными. Обсудить, что будет происходить с правами персоны (человека и гражданина), и как предотвратить превращение людей в цифровых рабов, у которых украли цифровую личность. Методы: системный и стандартные методы правового анализа. Результаты: показано, что указанные опасения не напрасны, но человеческая цивилизация не допустит власти роботов, мировой войны на самоуничтожение и возникновения того, что называют цифровым концлагерем.
Цифровая трансформация, виртуальное пространство, цифровые системы, смарт-экосистемы, цифровые права, алгоритмизация, смарт-законодательство
Короткий адрес: https://sciup.org/142234105
IDR: 142234105 | УДК: 343.9
Текст научной статьи Возможно ли правовое государство в цифровую эпоху?
Для ответа на вопрос, сформулированный в заголовке статьи, необходимо его уточнить следующим образом:
-
1) можно ли остановить научно-технический прогресс? – нет;
-
2) верно ли утверждение «если я ничего плохого не делаю, то чего мне бояться»? – нет;
-
3) опасаемся ли мы виртуальных мошенников? – да;
-
4) могут ли IT-бизнесы злоупотреблять правом, а чиновники правительственных ведомств превышать свои полномочия? – да;
-
5) могут ли граждане контролировать правительство, а правительство контролировать IT-бизнес? – да;
-
6) должны ли правоохранители обеспечивать правопорядок и безопасность государства в электронной среде? – да;
-
7) является ли цифровая эпоха эпохой или это этап развития научно-технического прогресса?
Из ответов на поставленные вопросы следует вывод: правовое государство может существовать при любых уровнях развития научнотехнического прогресса, если граждане хотят этого. Достижения научно-технического прогресса – это только инструмент, который не должен выйти и не выйдет из-под контроля человечества. Далее рассмотрим аргументацию этих ответов.
Если исходить из того, что в правовом государстве должна действовать человекоцентрическая парадигма, то есть общечеловеческие ценности в виде свобод, прав и законных интересов людей должны лежать в центре внимания правительства, то приватность жизни персоны (человека и гражданина) и конфиденциальность персональных данных должны соблюдаться вне зависимости от того, какие достижения научно-технического прогресса используются ведомствами и (или) бизнесом [1]. Здесь приватность персоны подразумевается не только в действительном мире, но и в пространстве виртуальной сферы, существующей в интернет-инфраструктуре, как неприкосновенность персональных данных (данных, с помощью которых можно идентифицировать персону), а также данных о поведении персоны при посещении Интернета и (или) сайта [2].
Однако известны и другие мнения. Начнем с анализа публикации типичного представителя IT-бизнеса – гендиректора фирмы NtechLab – о технологии распознавания лиц, в которой он декларирует: «Если отвечать философски: на мой взгляд, понятие приватности нужно оставить в XX веке. В XXI оно не применимо. Все будут знать про вас все, это лишь вопрос времени. И вы от этого только выиграете»1. Это стандартное мнение технократа и бизнесмена, который уверен, что программа любой сложности может работать без инцидентов. Но философия говорит об обратном, а практика на стороне философов. Кроме того, правительства под давлением общественного мнения заставят не только IT-компании, но и IT-гигантов соблюдать нормы законодательства.
Хотя автор этой публикации считает, что в ближайшие 3–5 лет системы будут распознавать не только лица, но и такие уникальные параметры, как силуэт, рост, походку, он соглашается с тем, что люди, которые этого не хотят, будут придумывать, как обмануть самые совершенные алгоритмы. Пока видеофиксация не может решить несколько важных задач, чтобы говорить о ее безоговорочной победе над «щитом» от такого наблюдения за людьми.
Пока еще люди добровольно выкладывают в Интернете свои персональные данные, но эта ситуация уже начинает изменяться, так как они понимают, насколько это опасно.
Кроме того, многие согласны с электронной видеофиксацией в публичной сфере, в частности неправильно припаркованных автомобилей, их агрессивного движения в потоке. Однако никто не хочет, чтобы персональные данные «утекали» и ими пользовались мошенники и иные злоумышленники, в том числе зарубежные. Поэтому разработчикам придется искать баланс между безопасностью и правом персон на приватность.
То, что IT-бизнес стал глобальным и злоупотребляет правом, говорит лишь о том, что правовые системы государств пока еще недостаточно совершенны, а сами правоведы пока еще отстают от понимания того, что законы не должны быть метафоричными, то есть позволяющими юристам IT-бизнеса использовать их без учета законных интересов пользователей. С другой стороны, даже в правовом государстве некоторые политические силы могут использовать электронную среду для незаконной слежки за гражданами.
Непрерывно возрастает количество правонарушений и преступлений в электронной среде, о чем постоянно сообщают СМИ. Поэтому правоохранительные органы будут иметь возможность на законных основаниях получать доступ к закрытым (конфиденциальным) данным, в частности к персональным данным. Кроме того, технические сбои в работе Интернета все чаще приводят к инцидентам, которые происходят из-за его усложнения. Таким образом, электронная интернет-инфраструктура и виртуальные миры, продуцируемые с помощью смарт-эко-систем, не гарантируют их информационно-коммуникационную безопасность.
Далее остановимся на некоторых публикациях, авторы которых указывают на разнообразные возможные угрозы, которые могут созда- вать цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект. Например, П.В. Пивень цифровое рабство связывает с электронным тоталитаризмом, но считает, что оно может возникнуть и при ином государственном строе. Так, опыт блокировки аккаунта бывшего президента США Д. Трампа показал, что правила социальной сети могут быть выше, чем право [3].
Отдельные авторы указывают на то, что элита бизнес-коммуни-каций или их ставленники в виде лидеров общественного мнения могут прийти к власти [4]. Другие концентрируют внимание на экспертократах [5], креатократах [6], нетократах [7]. Считается, что креатократия, для которой ценность представляет тайное знание и принадлежность к ограниченной группе избранных, будет претендовать на политическое лидерство, а нетократия станет следующей элитой, которая будет противостоять иерархической системе управления. Целью такой новой власти, в отличие от классической власти, является капитал не в виде вещественных ценностей, а в виде информации, с помощью которой внимания пользователей фокусируется на необходимых власти ценностях. Нетократы заинтересованы в сохранении информационных ресурсов для эксклюзивного использования; их они ставят выше экономической выгоды.
В некоторых публикациях декларируется, что на фоне развития IT-гигантов законодательная власть и правительство становятся несостоятельными регуляторами: «Очевидно, что это вызов для нынешней бюрократии» [8]. Так, американский футуролог Р. Курцвейл предсказывает, что в XXI в. появится «сильный искусственный интеллект», который может выйти из-под контроля человечества1. Другие визионеры считают, что человечество самоуничтожится во время войны с помощью искусственного интеллекта, а также что совокупность властной элиты и глобального бизнеса создаст глобальный цифровой концлагерь, в котором люди будут находиться в качестве цифровых рабов.
Кроме футурологов, известны ученые, которые предлагают путь построения будущего общества с применением искусственного интеллекта. Так, Н. Бостром обосновал единственный, как он полагает, рецепт спасения мира от глобальной катастрофы – создание Всемирного Большого Брата [9]. Однако он оговаривает условие, что технический прогресс продолжится с ускорением. Это является слабостью гипотезы, так как экспоненциальный рост может закончиться логистической кривой или катастрофическим обвалом.
Все эти авторы не учитывают того, что в массовом сознании на смену одним идеям приходят другие, и это происходит инерционно и волнообразно. При этом законодательство имеет существенное значение в этих процессах. Если оно будет «умным», то есть понятным народу и алгоритмам, а его нормы будут стимулировать рациональное поведение, тогда эти процессы могут осуществляться эволюционно.
Например, рациональная политика Евросоюза в области сохранения окружающей среды привела к углеродному налогу, что заставляет другие страны добровольно последовать этому примеру в плановом порядке. Точно так же люди научатся ограничивать себя в просмотре сериальчиков на Netflix, видеороликов в TikTok, а также в «сидении» в соцсетях, а государства создадут суверенные секторы Интернета.
Никто в мире не хочет негативных последствий от применения научно-технических достижений, поэтому люди найдут правовые инструменты, как купировать такие угрозы, но запретить научно-технический прогресс нельзя. В конечном итоге только идеи в сознании людей заставляют их использовать достижения научно-технического прогресса в негативных целях. Однако люди способны договариваться, и это вселяет надежду на то, что рукотворный апокалипсис не наступит ни в цифровую эпоху, ни в следующие, названия которым люди придумают. То, что Солнечная система конечна, заставляет людей осознанно развивать научно-технический прогресс. Поэтому необходимо различать действительные и мнимые угрозы, которые могут возникать от применения цифровых технологий. Но сначала надо определиться с используемыми терминами. Например, «цифровая революция – это не столько технологическая трансформация, сколько социальная»1, однако здесь необходимо уточнить, что цифровая трансформация – это про то, чтобы законодательство стало рациональным, понятным людям и алгоритмам.
Легализация цифровых прав в ГК РФ привела к тому, что правоведы стали обсуждать, как назвать такие права в публично-правовой сфере. Предлагается «использовать для публично-правового обозначения цифровых прав термин "двоичные (бинарные) права", который подчеркивает связь с цифровой передачей информации (binary), а также через игру слов оттеняет двойственность существования этих прав как online, так и offline» [10]. Наверное, нет смысла использовать термин
«двоичные права» для обозначения составляющей информационных прав, но автор этой публикации прав, что в основе всех дискретных электронных устройств используется двоичное отображение информации, вне зависимости от режима работы этих устройств. Однако новый этап развития научно-технического прогресса продуцирует виртуальные, а не двоичные или цифровые миры. Двоичность и цифровость – это только логические свойства этих миров.
С.Г. Чубукова обращает внимание на субъекта информационных прав в условиях цифровизации [11]. Известно много обозначений людей в современном цифровом обществе: цифровой, виртуальный, смарт, сетевой, интернет-человек, киборг, инфорг и т. д. На наш взгляд, лучше всего подходит наименование «онлайн-человек», так как именно благодаря онлайн-режиму он взаимодействует с виртуальным миром. В этом мире продуцируется его виртуальное отображение, называемое цифровым профилем, цифровой личностью, цифровым двойником и т. д. Поэтому необходимо определить, что такое цифровая «жизни-деятель-ность» (авторский термин. – Прим. ред. ).
Слово «цифровой» применительно к компьютерам появилось в СССР благодаря Б.И. Рамееву и И.С. Бруку, которые в 1948 г. подали заявку на изобретение с названием «Автоматическая цифровая электронная машина» и в 1950 г. получили авторское свидетельство на него. Особенностью этой машины было использование полупроводниковых диодов, а сама машина появилась в 1953 г. Словосочетание «цифровая жизнь» стало популярным благодаря журналистам, которые исказили название статьи Being double digital («Двоичная цифровая жизнь») Н. Негропонте, опубликованной в журнале Wired в 1995 г.1
В словосочетании «цифровая трансформация» ключевым является «трансформация» (в частности, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов) под требования алгоритмизации. В связи с этим интересно обратить внимание на Распоряжение Правительства РФ2, где появилось словосочетание «функциональная трансформация», подчеркивая, что и функциональность структур должна трансформироваться.
Цифровая трансформация представляет собой очередной, четвертый, этап автоматизации «жизни-деятельности» людей, который пришел на смену электронизации. Слово «цифровой» обозначает системы, в частности цифровые, которые называют блокчейном, так как в них используются цифровые метки, как цифровые подписи. Новый термин «цифровые инновации», скорее всего, будет заменен на «смарт-системы», так как именно они могут продуцировать виртуальные миры, которые воспроизводятся с помощью лазерной визуализации и акустического сопровождения. Пользователь может одновременно находиться в действительности и виртуальности.
Люди живут в действительном мире, но могут существовать и в виртуальном. Эти миры связаны, и анонимный пользователь может нанести вред конкретному субъекту через виртуальный мир и остаться безнаказанным. Можно принять норму в законе о наказании за такие действия, но пока нет инфраструктуры, с помощью которой правоохранители смогут идентифицировать злоумышленника и доказать его вину, закон не будет действовать. Поэтому в виртуальном мире должны быть виртуальные границы, а для этого необходимо законодательно определить, что это такое и чем они отличаются от цифровых границ, а заодно и сказать, существуют ли цифровые границы или это метафора.
Сейчас важнее создать безопасное виртуальное пространство сферы смарт-систем на электронно-цифровых платформах, чем бояться искусственного интеллекта. Как известно, в публикации Х. Дрейфуса еще в 1965 г. была высказана гипотеза о невозможности построения искусственного интеллекта [12], а в 2020 г. Р. Фьелланд доказал, что это принципиально невозможно сделать [13].
На наш взгляд, экзистенциальный риск потенциальной угрозы, исходящей от сильного искусственного интеллекта, можно рассматривать как мнимый, так как его принципиально нельзя построить, а вот действительные риски применения смарт-вирусов или смарт-систем вполне вероятны.
В связи с этим правоведы обсуждают так называемые цифровые права, к которым относятся права на информацию, а цивилисты, не дождавшись легальной дефиниции цифровых прав от информационного права, включили ее в ГК РФ. Вне зависимости от вида правоотношений – общественно-гражданских, частноправовых и (или) публично-правовых, – в которых принимает участие персона, в каждом из этих его прав имеется информационная составляющая, базирующаяся на универсальных информационно-коммуникативных правах. Поэтому такие права персоны существуют и подлежат признанию, охране и (или) защите до тех пор, пока их реализация не приводит к противоречию с охраняемыми правами иных юридических субъектов (физических, юридических лиц и (или) публично-правовых образований).
Власть не допустит самоуправства IT-корпораций, а взрослые – затянувшегося инфантилизма молодежи. То же можно сказать о претензиях глобальных корпораций, так как уже видно, что глобализм выдыхается и ему на смену идет новый тренд.
В Федеральном законе «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» отмечено, что организация функционирования федерального регистра сведений о населении основывается на принципах «законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности содержащихся в федеральном регистре сведений о населении персональных данных»1. Учитывая, что в практической деятельности возникают утечки персональных данных из баз данных различных ведомств, в этом пункте уделено внимание обеспечению централизованной безопасности персональных данных.
Напомним, что нормативные правовые акты, посвященные ведомственным базам данных, стали появляться давно и создавались для улучшения работы государственных и муниципальных электронных услуг. В том, что интернет-инфраструктура оказалась пространством всеобщего недоверия и происходят утечки персональных данных, виноваты идеалисты (отцы-основатели архитектуры Интернета). Поэтому обеспечение безопасности хранилищ персональных данных для предоставления публично-правовых сервисов, называемых цифровыми сервисами, вполне оправданно. Аналогичные процессы протекают и в других странах, которые создают «сервисные государства». Необходимо отметить, что в любом государстве осуществляется фиксация сведений о населении.
Обеспечение безопасности хранения и (или) передачи данных, а также программ, а стало быть, и их пользователей подразумевает наличие встроенных инструментов контроля и их соответствие стандартам и тре- бованиям регуляторов. Однако как требования стандартов, так и законодательные нормы имеют недостатки, поэтому в системах безопасности кроме своих программно-аппаратных уязвимостей возможны и нормативные уязвимости. Неопределенность законов приводит к непониманию их норм гражданами и предметными специалистами организаций и бизнеса.
Наша уверенность в том, что человечество найдет ответ на все вызовы, возникающие при применении достижений научно-технического прогресса, базируется на докладе, который был опубликован в 2019 г. ООН1. В нем под цифровым сотрудничеством подразумевается совместная работа, позволяющая справиться с влиянием, оказываемым цифровыми технологиями на общество, этику, законодательно-правовую сферу и экономику. Эта работа направлена на то, чтобы максимизировать выгоды и минимизировать вредные воздействия этого влияния. На уровне ООН появилась возможность искать консенсус между действующими лицами (стейкхолдерами) на «цифровом поле».
Выводы. Власть (бюрократы), бизнес (олигархи) и креатократы должны договориться, а не действовать, как «лебедь, рак да щука». Договариваться они должны в соответствии с «умными» законодательствами, нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами.
Список литературы Возможно ли правовое государство в цифровую эпоху?
- Нестеров А.В. Правовая категория частной жизни и ее связь с категорией персональных данных в условиях цифровизации // Юридический мир. 2020. № 6. С. 24-28.
- Нестеров А.В. Цифровизация общества и экономики: систематизация персональных данных в информационных системах // Научно-техническая информация. Сер.: Организация и методика информационной работы. 2020. № 6. С. 9-14.
- Пивень П.В. Цифровое рабство или электронный рай? // Век глобализации. 2018. № 4. С. 107-113.
- Кастельс М. Власть коммуникации. М. : ГУ ВШЭ, 2016. 214 с.
- Ашкеров А.А. Экспертократия. Управление знаниями: производство и обращение информации в эпоху ультракапитализма. М. : Европа, 2009. 213 с.
- ФлоридаР.Креативный класс: люди, которые создают будущее. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. 384 с.
- Бард А., Зодерквист Я. №Шкратия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. СПб., 2004. 252 с.
- Цзяньган Ван. Влияние IT-гигантов на политику // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. 2019. № 1. С. 131-135.
- Bostrom N. The Vulnerable World Hypothesis // Global Policy. 2019. Vol. 10, iss. 4. P. 455-476.
- Талапина Э.В. Эволюция прав человека в цифровую эпоху // Труды Ин-та государства и права РАН. 2019. Т. 14, № 3. С. 122-146.
- Чубукова С.Г. Цифровая трансформация системы субъектов информационного права // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 12. С. 74-81.
- Dreyfus H.L. Alchemy and Artificial Intelligence. RAND papers, 1965. 90 p.
- Fjelland R. Why general artificial intelligence will not be realized // Humanities and Social Sciences Communications. 2020. Vol. 7, № 10. URL: https://www.nature.com/articles/s41599-020-0494-4.