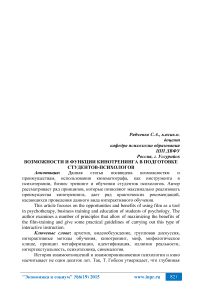Возможности и функции кинотренинга в подготовке студентов-психологов
Автор: Рябченко С.А.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 6-3 (19), 2015 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена возможностям и преимуществам, использования кинематографа, как инструмента в психотерапии, бизнес тренинге и обучении студентов психологов. Автор рассматривает ряд принципов, которые позволяют максимально реализовать преимущества кинотренинга, дает ряд практических рекомендаций, касающихся проведения данного вида интерактивного обучения.
Архетип, видеообсуждение, групповая дискуссия, интерактивные методы обучения, кинотренинг, миф, мифологическое клише, принцип метафоризации, идентификация, иллюзия реальности, интертекстуальность, психотехника, синемалогия
Короткий адрес: https://sciup.org/140115566
IDR: 140115566
Текст научной статьи Возможности и функции кинотренинга в подготовке студентов-психологов
История взаимоотношений и взаимопроникновения психологии и кино насчитывает не один десяток лет. Так, Т. Гибсон утверждает, что глубинная психологи и кино – сестры, и обе родились в Париже в 1895 году. «Фрейд, уже перерабатывает идеи месмеризма и бессознательного… перешел к своей революционной технике свободных ассоциаций, раскрывающие подавленные детские воспоминания. А на другой стороне города братья Люмьер, отсняв свой первый документальный фильм, проецировали его на пустую стену таверны», – пишет Т. Гибсон [11, с.74]. Это не выглядит таким уж большим преувеличением, если мы вспомним, какое влияние оказал психоанализ и аналитическая психология Юнга на творчество крупнейших режиссеров XX века, среди которых: Ингмар Бергман, Федерико Феллини, Альфред Хичкок, Дэвид Линч, Луи Буньюэль и Вуди Аллен.
Кратко остановимся на тех направлениях, где можно наблюдать точки соприкосновения и взаимопроникновения кинематографа и психологии. В 2005 году выходит тематический выпуск о кино старейшего юнгианского издания “Spring” [11]. Многие статьи данного альманаха можно рассматривать, как альтернативу традиционной кинокритики. Юнгианский взгляд на кино, прежде всего, направлен на раскрытие образов кино и феноменологии психической жизни героев фильмов. Более того, есть примеры непосредственного использование в кинопроизводстве идей глубинной психологии. В частности, то влияние, которое оказали идей Дж. Кэмпбелла автора «Тысячеликого героя», на создание космической эпопеи «Звездные войны» Дж. Лукаса. М. Комфорти пишет: «Значительная часть успеха «Звездных войн» объясняется точным соответствием архетипическим доминантам и тем, что событийная последовательность фильма отражала логику архетипического мотива, лежащего в его основе» [11, с.58-59]. Важно отметить, что Дж. Кэмпбелл в своих трудах, посвященных сравнительной мифологии «…апеллирует к работам и других авторов (преимущественно Фрейда и его первых учеников – Отто Ранка, Гезы Рохейма, Вильгельма Штекеля), влияние Юнга представляется основным и первостепенным» [8, с. 9].
Использование структуры героического мифа или «мифологического клише» нетрудно заметить в таких культовых лентах, как «Матрица», «Побег из Шоушенка», «Форрест Гамп». «Мифологическое клише – это цельная система, где заранее заданы образы-архетипы, отношения между ними, сюжетные линии и тип оценок», – поясняет А.Л. Баркова [2, с.154]. История, о которой повествует каждый культовый фильм, – это история «… об архетипах, не о стереотипах» [11, с.100]. Для нас, в данном случае, важен не тот факт, что данные киноленты стали популярны у миллионов зрителей и обеспечили кассовые сборы, а то, что кинофильмы, созданные в соответствии с вышеописанными культурно-психологическими принципами, обладают значительным потенциалом стать инструментом фасилитации в триаде «психолог-кино-зритель» и/или «психотерапевт-кино-клиент». Другими словами, речь может идти об использовании определенных кинофильмов, как психотерапевтического инструмента.
Примером в данном случае может служить терапевтическая синемалогия А. Менегетти: «Итак, синемалогия с онтопсихологической точки зрения – это ожидание эмоций каждого зрителя, необходимых для проведения идентификации, в том числе рациональной: бессознательное становится доступным для "Я", в данном случае для превосходящего "Я" психотерапевта, который способен идентифицировать и разъяснить состояние зрителя. Тем самым психотерапевт говорит: «Если ты отождествляешь себя с данной ситуацией, значит она – твоя, и твоя жизнь завершится точно так же, как история в фильме» [15, с.98]. Характеризуя возможность использовать кино, как инструмент психотерапии, Менегетти со всей определенностью говорит о том, что «… нет разницы, анализировать ли человека, консультируя его на основе содержательного анамнеза и изложения некоторых сновидений, или же рассматривать текст романиста либо фильм, поскольку в обоих случаях я прихожу к соответствующему знанию психодинамики». [15, с.36].
Следует отметить, что столь заметный взаимный интерес глубинной психологии и кинематографа обусловлен с одной стороны тем, что и кино, и психология включены в единый мир культуры. Одной из составляющих частей этого мира являются символические формы (образы, символы, метафоры и мифы). С другой стороны глубинная психология в силу того, что ориентирована преимущественно на изучение бессознательных психических процессов, рассматривает работу с образами и символами [18], [21], как важнейший инструмент проникновения в бессознательное, т.е. речь идет об общем культурном поле, которое обнаруживает кино и глубинная психология: «Синемалогия – это вербализация семиотического диалога между зрителем и его воображаемой реальностью» [15, с.92].
Было бы не справедливо ограничиться констатацией фактов, свидетельствующих об интересе к кино исключительно адептов глубинной психологии. Если набрать в строке какого-либо поискового ресурса слово «кинотренинг», то вы обнаружите множество примеров использования кино представителями альтернативных направлений психологии. Например, анализ кинофрагментов широко используется, в качестве инструмента интерактивного обучения, в рамках психологии менеджмента. Так, в 2007 году журнал Top-Manager опубликовал специальный выпуск «100 лучших фильмов для менеджеров» [1]. Авторы данного тематического сборника на примере сотни фильмов приводят яркие иллюстрации таких категорий социальной психологии и психологии управления, как лидерство, инновации, управление конфликтами, планирование и деловое общение. Особый интерес, который имеет отношение к теме данной статьи, представляют публикации, посвященные принципам и технологии проведения кинотренинга, а также эффективности данного метода, среди немногих отметим: Е. Кима, Е. М.И. Бутенко [9], А.Г. Лидерса [12], К.А. Казакова [7], А.А. Трусь [19], М.И. Яновского [23].
В частности, А.А. Трусь рассматривает ряд преимуществ, которые предоставляет кинотренинг и видеообсуждение, как инструменты интерактивного обучения [19]. Так автор отмечает, что «…использование тренером этого методического инструмента создает участникам тренинга ощущение психологической безопасности и защищенности» [19, с.12]. Перефразируя слова A. Менегетти: «Пациентом является мой сон, а не я» [15, с. 75], – можно сказать, что предметом обсуждения на видеотренинге буду не я, а мои впечатления о просмотренном сюжете. Это обусловлено тем, что участники во время процедуры видеообсуждения занимают экспертную позицию. Кроме того, данная процедура позволяет управлять групповой динамикой, а так же выполнять диагностическую функцию в отношении уровня подготовленности аудитории к анализу просмотренного материала [19, с. 12-19]. Процесс видеообсуждения так же может стимулировать дальнейшую самостоятельную работу с отсмотренным материалом после завершения кинотренинга, участники уже «другими глазами» могут пересмотреть фильм, вызвавший интерес. Как остроумно по этому поводу высказалась Фаина Раневская: «Четвертый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать, что сегодня актеры играли как никогда» [17].
Еще одно преимущество кинотренинга, на которое следует обратить внимание, – это способность кинематографа создавать иллюзию реальности происходящего на экране: «То, что кино вызывает у зрителя такое ощущение достоверности, которое совершенно недоступно никаким другим искусствам и может равняться лишь с переживаниями, вызываемыми непосредственными жизненными впечатлениями, – бесспорно. Очевидна и выгода этого для силы художественного впечатления» [13, с 96.]. Именно эта иллюзия реальности увеличивает силу воздействия на аудиторию. «Фотографичность» и «документальность», которая в том или ином виде присутствует даже в игровом кино, воздействует более убедительно, чем слово. Более того, когда аудитория полностью погружена в происходящее на экране происходит сужение сознания (измененное состояние), выражаясь метафорически, сознание может сужаться до размеров «экрана»: «На заре кинематографа движущееся изображение на экране вызывало у зрителей физиологическое чувство ужаса (кадры с наезжающим поездом) или физической тошноты (кадры, снятые с высоты или при помощи раскачивающейся камеры). Эмоционально зритель не различал изображения ирреальности» [13, с. 24]. Впрочем, подобные трансформации восприятия имеют вполне рациональное объяснение, так В.М. Хачатурян ссылается на следующий факт: «...открытия К. Прибрама, экспериментально доказавшего, что наши представления о внешнем мире – не более чем конструкция мозга, фильтрующего и перерабатывающего информацию так, чтобы создать реальность, оптимально согласованную с биологическими и социокультурными программами» [20, с. 84]. Кроме того, сила воздействия кинофильма возрастает, когда происходит первичная идентификация (с главным героем фильма), и вторичная – с ситуацией киноповествования. В подтверждении вышесказанного, приведем результаты повторения классического эксперимента С. Милгрэма.
«Мел Слейтер с группой коллег повторили эксперимент Стэнли Милгрэма с использованием технологии виртуальной реальности. 34 участника должны были надеть гарнитуру для создания виртуальной реальности и обучать виртуальную женщину запоминать словесные пары. При этом каждый раз, когда она отвечала неправильно, по инструкции они должны были назначать ей удары электрическим током, от раза к разу увеличивая их мощность. Несмотря на то, что женщина-ученик была явно нереальной, она эмоционально и от раза к разу интенсивнее реагировала на удары током, и на определённом этапе она говорила, что не хочет больше продолжать. Из 34 участников 23 видели и слышали виртуальную женщину-ученика, а 11 общались с ней только посредством текстовых сообщений. В результате все 11 участников, общающихся с женщиной-учеником письменно, выполнили все необходимые пробы, ни у одного из них не возникло намерение остановить эксперимент. В группе, в которой участники видели и слышали женщину-ученика, 6 участников прекратили эксперимент раньше, чем женщина-ученик дала 20-й неверный ответ. Еще 6 сообщили, что хотят прекратить эксперимент, потому что испытывали отрицательные эмоции от происходящего. Результаты также показали, что участники, которые могли видеть и слышать виртуальную женщину-ученика, воспринимали ситуацию, как если бы она была реальной: 1) их уровень кожно-гальванической реакции и сердечный ритм значимо отличались от участников из другой группы; 2) в пробах, в которых женщина-ученик протестовала, они, как правило, давали ей больше времени на ответ прежде, чем произвести удар током; 3) некоторые из них старались выделить правильный ответ среди набора вариантов, будто бы пытаясь помочь женщине-ученику избежать удара током.
На основе этих результатов авторы делают вывод, что, взаимодействуя с виртуальными героями, люди склонны проявлять реальные реакции на субъективном, физиологическом и поведенческом уровнях» [16].
Было бы неоправданным упрощением рассматривать кинотренинг, как простую реализацию золотого правила дидактики Я.А. Коменского : «Все, что только можно предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое для восприятия зрением, слышимое – слухом, ... Если какие-то предметы можно воспринимать несколькими чувствами, пусть они будут несколькими чувствами» [10, с. 384]. Ю.М. Лотман отмечает двойственность кинематографа, который с одной стороны отражает «фотографическую» реальность, а с другой стороны, оставаясь искусством, обладает своим собственным сложным языком: «С одной стороны, образы на экране воспроизводят какие-то предметы реального мира. <…> С другой стороны, образы на экране могут наполняться некоторыми добавочными, порой совершенно неожиданными, значениями. Освещение, монтаж, игра планами, изменение скорости и прочее могут придавать предметам, воспроизводимым на экране, добавочные значения – символические, метафорические, метонимические и пр.» [13, с. 42].
Метафоричность киноязыка открывает широчайшие возможности смыслопорождения для участников кинотренинга, одновременно предъявляет существенные требования к подготовке ведущего (тренера), который использует данный метод интерактивного обучения. Другими словами, важны не только базовые тренерские компетенции (умение организовать групповую дискуссию, отслеживать групповую динамику, давать конструктивную обратную связь и т.д.), но и овладение киноязыком, в том числе, и метафорическим языком кино: «Благодаря своей психологической структуре метафора является «мостом» между сознанием и бессознательным. Она оказывается своего рода «тележкой», перевозящей внутренние содержания клиента из сферы бессознательного в его сознание. Вместе с тем метафора представляет собой также «психологическую ловушку» для образов бессознательного, причем такую ловушку, которая позволяет расшифровывать (декодировать) их значение, осознавать и понимать бессознательное. Тем самым метафора (и процесс метафоризации) дает возможность интеграции в сознание клиента тех содержаний его опыта, доступ к которым закрыт для знакового означения [5, с.111-112].
В методологическом плане в проведении видеообсуждения так же важен принцип интертекстуальности для анализа кинематографического материала. С наибольшей очевидностью интертекстуальность проявляется в жанрах породи и стилизации, то есть в кинотексте в той или иной мере присутствует текст-предшественник. Хрестоматийным примером интертекстуальности в кинематографе является «Криминальное чтиво» К. Тарантино. Фильм, созданный Тарантино, содержит вполне прозрачные аллюзии на ряд сцен из гангстерской саги «Крестный отец», голливудские боевики, «танцевальные» фильмы. В нем присутствует ироничный взгляд на штампы и клише, присутствующие в поп-культуре, фильм соткан из цитат, которые сами указывают на подобное истолкование.
М.Б. Ямпольский, развивая идеи М. Бахтина о диалогичности текста, применительно к концепции интертекстуальности в кинематографе, приходит к заключению, что зритель сам становится полноправным соавтором кинематографического текста: «Текст не вещь, это трансформирующееся поле смыслов, которое возникает на пересечении автора и читателя. При этом тексту принадлежит не только то, что сознательно внес в него автор, но и то, что вносит в него читатель в своем с ним диалоге» [22, с.34]. Далее М.Б. Ямпольский в подтверждении идеи интертекстуальности кинематографа приводи мнение Р. Барта: «Всякий текст есть междутекст по отношению к какому-то другому тексту, но эту интертекстуальность не следует понимать так, что у текста есть какое-то происхождение; <...> текст же образуется из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читаных цитат - из цитат без кавычек. <...>. Автор считается отцом и хозяином своего произведения; <...>. Что же касается Текста, то в нем нет записи об Отцовстве <...>. Текст можно читать, не принимая в расчет, волю его отца; при восстановлении в правах интертекста парадоксальным образом отменяется право наследования. Призрак Автора может, конечно, «явиться» в Тексте, в своем тексте, но уже только на правах гостя...» [22, с.36-37].
В подтверждении данного тезиса приведем пример из собственной практики. Метод, который мы практикуем для подготовки студентов-психологов, отчасти напоминает дидактическую синималогию А. Менегетти [15]. Однако отличие состоит в том, что акцент делается не на интерпретацию образов и символов, т.е. косвенной экзистенциальной терапии, а как один из интерактивных метод развития профессиональной компетентности в курсе изучения психологического консультирования и психокоррекции. Кроме того, по стилю проведения наш кинотренинг осуществляется в духе личностно-центрированного подхода, где источником активности являются в большей степени являются сами учащиеся. Ведущий кинотренинга находится в позиции фасилитатора, управляя групповой динамикой, и организуя коммуникацию между учащимися.
Материалом для обсуждения был выбран анимационный фильм Гарри Бардина «Адажио» (2000г.). На протяжении фильма, который длится столько же, сколько и «Адажио» Томазо Альбинони (9.42 мин.), персонажи не говорят ни слова. Сами фигурки на экране напоминают толи бумажные оригами, толи монашеские сутаны, толи воронов, т.е. предельная абстракция. На пути этой безликой серой массы, бредущей в потемках, встречается снежно-белый силуэт. Встреча развивается трагично – «серость» уничтожает того, кто не похож на нее… Студенты-психологи третьего курса в процессе групповой дискуссии увидели в данном сюжете библейские мотивы – историю о Христе, провели исторические параллели с Джордано Бруно, Галилео Галилеем, прозвучала метафора «белая ворона». Группа при минимальном участии ведущего вышла на проблему того, что в детских коллективах часто встречаются такие «белые вороны», которые подвергаются травле сверстников, о подростковой жестокости, конформизме, праве отдельной личности быть самим собой, и еще о многих важных вещах. Затем дискуссия развернулась в сторону возможности использования анимационных фильмов в психокоррекционных целях. Интересен и тот факт, что ныне покойный понтифик Иоанн Павел II заинтересовался работой российского режиссера и выразил желание ее посмотреть. После просмотра папа Римский был глубоко тронут увиденным, и удостоил Гарри Бардина особой наградой Святого Престола (это к вопросу об уровне культуры наших двадцатилетних студентов). Данный пример наглядно показывает, что «Языковое поле в таких анализах строится парадоксальным образом. Оно располагается между видимыми в тексте элементами (цитатами, аномалиями) и невидимым интертекстом. Ведь интертекст не существует на пленке или на бумаге, он находится в памяти зрителя или читателя. Смыслопорождение разворачивается между физически данным и образом памяти» [22, с.414-415].
Принципы и психотехники, касающиеся использования метафор и/или психотехнических мифов в практике проведения тренингов, достаточно широко представлены в работах российских специалистов, в частности, И. В. Вачкова, [3, 4], Д.В. Дмитриева[6], Б.М. Мастерова и Г.М. Цукерман [14]. Отметим, что подготовка к проведению кинотренинга отличается тем, что предполагает не столько конструирование психотехнических игр и упражнений, сколько связана с подбором киноматериала, и способностью прогнозировать его потенциал запускать процесс смыслопорождения: «Кино – искусство видеть», – говорит один из персонажей в фильме Вима Вендерса «С течением времени» [11]. Другими словами речь идет о культурологической компетентности тренера. Другим необходимым условием успешности проведения видеообсуждения является консультативная компетентность ведущего групповой дискуссии, которая заключается в помощи ее участникам формулировать высказывания, используя проясняющие, наводящие, формирующие вопросы (зачастую непосредственно после просмотра киноматериала впечатления аудитории кинотренинга представлены на до-вербальном, до-рефлексивном уровне). Кроме того, ведущему важно выносить собственные интерпретации кинотекста на суд аудитории, соблюдая тем самым принцип равноправного диалога. Собственно говоря, у ведущего два основных инструмента в работе с аудиторией – это майевтика и герменевтика, приоритетным является первый из двух.
Много полезного в плане проведения методики использования кино как метода интерактивного обучения можно почерпнуть из книги «Кинотренинг: Технология и методика видеообсуждения» [19]. Следует добавить еще несколько методических рекомендаций, касающихся проведения кинотренинга. В условиях краткосрочного тренинга-семинара или аудиторного занятия в традиционном формате (1,5 часа) бывает сложно организовать просмотр кинофильма целиком, и провести полноценную групповую дискуссию. В тоже время значительный по времени эпизод кинофильма может быть «развернутой метафорой»... даже целое произведение может быть рассмотрено как единая метафора» [5, с. 96]. Другими словами, возникает угроза утраты значительной смысловой части кинопроизведения, которая работает на цели тренинга. Данные временные ограничения можно решить, как минимум, тремя способами, во-первых, дать участникам тренинга опережающее задание: посмотреть фильм в интернете (в настоящее время существует достаточно on-line кинотеатров, легально предоставляющих соответствующий контент). Во-вторых, для того чтобы сохранить непосредственное эмоциональное воздействие киноленты можно просмотреть ключевые эпизоды, использую технологию «стоп-кадр», т.е. проводить поэтапный анализ по «горячим следам». В-третьих, использовать прием «сериал», когда ведущий тренинга рассказывает краткое содержание предыдущих эпизодов фильма, затем демонстрируется часть, несущая основную смысловую нагрузку, а окончание фильма участники тренинга при желании могут посмотреть самостоятельно.
В группе, которая значительно превышает обычную группу тренинга (10-12 человек), целесообразно использовать шеринг (от англ. to share – делиться). Для этого необходимо разделить всех участников на микрогруппы для того, чтобы они предварительно обсудили свои впечатления, каждая из микрогрупп делегирует кого-либо, что бы он кратко высказался мнения и впечатлении данной микрогруппы о просмотренном материале, затем уже можно перейти к работе со всей аудиторией.
И наконец, стоит ли предварять кинопросмотр постановкой вопросов (заданий) участникам тренинга? Эти вопросы тренер должен решить на этапе целеполагания, иногда целесообразно точно сформулировать вопросы, которые акцентируют внимание аудитории на предмете видеотренинга, в других случаях ценность представляют озарения, возникающие «здесь и сейчас». В любом случае ведущий кинотренинга еще до начала работы должен видеть поставленную цель, а задачи, тематическое наполнение и динамика тренинга могут гибко меняться в зависимости от степени вовлеченности и активности участников. Кинотренинг – это, прежде всего, коллективные творческие усилия в «написании» нового жизненного текста.
Итак, все вышеприведенное показывает следующее:
В психотерапии кино может выполнять функцию инструмента проникновения в бессознательные процессы психики; в бизнес тренинге быть источником многочисленных убедительных примеров эффективного профессионального поведения; в обучении студентов-психологов кино может способствовать усвоению учебного материала, как личностно пережитого знания.
Кинотренинг обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными видами обучения. Вот, некоторые из них: атмосфера безопасности, эмоциональная вовлеченность, сила психологического воздействия, метафоричность киноязыка, которая открывает широкие возможности смыслопорождения.
Специфические компетенции ведущего кинотренинг основываются на принципах диалогичности, метафоричности и интертекстуальности.
Отдельного рассмотрения требует вопрос о той роли, которую может играть кино в освоении учащимися терминологии психологической науки. Данной теме будут посвящены следующие публикации.
Список литературы Возможности и функции кинотренинга в подготовке студентов-психологов
- лучших фильмов для менеджеров//Top-Manager 2007. № 1 (67). -318 с.
- Баркова А.Л. От короля Лира к товарищу Сухову. Судьба мифологического клише в художественном мышлении//Человек. 1998. № 2. С. 154-170.
- Вачков И. В. Психология тренинговой работы: Содержательные, организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы. -М.: Эксмо, 2007. -416 с.
- Вачков И.В. Метафорический тренинг. -М.: «Ось-89», 2006. -144 с.
- Волкова Д.Э., Орлов А.Б., Орлова Н.А. Знак, метафора, символ -методология субъектности//Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2010. Т. 7, № 3. С. 89-119.
- Димитриев Д.В. и др. Семь инструментов успеха в работе бизнес-тренера. -СПб.: Речь, 2008. -207с.
- Казаков К.А. Кинематограф как инструмент фасилитации//Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Педагогика и психология, 2012, № 4. C. 95-103.
- Калина Н. Миф в современном мире./Предисловие//Кэмпбелл, Дж. Тысячеликий герой. -М.: Рефл-бук, 1997. С. 7-12.
- Ким Е., Бутенко Е. Бизнес-тренинг от Hollywood(а). Использование видео в учебных целях. -М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. -208 с.
- Коменский, Я.А. Избранные педагогические сочинения/Я.А. Коменский. -В 2-х т.-М.: Педагогика, 1982. -Т.1. 656 с.
- Кино и глубинная психология. Юнгианский взгляд. Сборник. -М: МААП, 2010. -304 с.
- Лидерс А.Г. Использование художественных фильмов в учебных целях в курсах семейной психологии, психологии отцовства и материнства и в курсах по психологии переживая утраты//Журнал практического психолога. 2011, № 6. С. 172-189
- Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. -Таллин: Издательство «Ээсти Раамат», 1973. -138 с./: Режим доступа: http://lib.ru/CINEMA/kinolit/LOTMAN/kinoestetika.txt
- Мастеров Б.М., Цукерман Г.А. Психология саморазвития. -М.: Интерпракс, 1995, -288 с.
- Менегетти А. Кино, театр, бессознательное. Том 1. -М.: ННБФ Онтопсихология, 2001. -384 с.
- Повторение эксперимента Стэнли Милгрэма о повинуемости в виртуальной реальности : Режим доступа: http://psyresearchdigest.blogspot.ru/2012/11/povtorenie-ehksperimenta-milgrema-o-povinuemosti-v-virtualnoj-realnosti.html
- Раневская Ф. Случаи. Шутки Афоризмы: сборник биографической информации/Сост. и ред. И. Захаров/-М.: Захаров, 2008. -141 с.
- Стюарт В. Работа с образами и символами в психологическом консультировании. -М.: "Класс", 2003. -384 с.
- Трусь А.А. Кинотренинг: Технология и методика видеообсуждения. -СПб.: Речь, 2011. -191 с.
- Хачатурян В.М. Человек между мирами: транс персональный опыт в измененных состояниях сознания//Вопросы социальной теории. -2011. Том V. -C. 82-102
- Юнг К.Г. Либидо, его метаморфозы и символы. СПб.: Восточно-Европейский институт психоанализа, 1994. -416 с.
- Ямпольский М.Б. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. М.: РИК Культура,1993. -464 с.
- Яновский М.И. Проблема изменения Я-концепции под влиянием просмотра кинофильма//Вопросы психологии. -2012. № 1. С. 92-99.